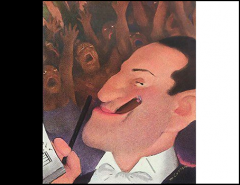Формалист
Опубликовано в classicalmusicnews.ru

В юности он хотел быть грузином. К началу ХХ века в его родном городе Гори, построенном на территории древней крепости для беженцев из Армении грузинским царем Давидом Строителем, армяне составляли примерно треть городского населения, и многие из них уже не говорили на языке предков. В том числе и будущий композитор, Ованес Мурадов, сын рабочего-винодела Ильи Мурадова (Мурадяна).
В детстве он свободно говорил только по-грузински и когда перебрался в Тбилиси, на учебу, пожелал слиться с окружением окончательно. И даже стал именовать себя на грузинский лад.
В музыковедческих работах и статьях, посвященных зловещей абсурдистской пьесе под названием «Постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 года об опере “Великая дружба”», то и дело мелькает многократно растиражированный саркастический комментарий, объясняющий это превращение Ованеса (Ивана) Мурадова в Вано Ильича Мурадели его любовью к Сталину и желанием приблизиться к кумиру хотя бы с помощью звучания своего имени. Согласитесь: логики в таком поступке мало. «Мурадели» не то чтобы так уж похоже на «Джугашвили». А главное – станет ли умный человек (а он, несомненно, был умен) заменять свою армянскую фамилию грузинским псевдонимом в честь человека, который в глазах большинства граждан СССР свою грузинскую фамилию практически утратил и уже четверть века предпочитает пользоваться русским псевдонимом?
Сколько ни искал, я не обнаружил никаких свидетельств, достоверно подтверждающих версию перемены имени «из патриотических соображений», хотя совершенно очевидно, что в юном возрасте Мурадели мог гордиться, а став старше, должен был гордиться своим землячеством с вождем Страны Советов. А вот свидетельства того, что в зрелом возрасте это отношение у него коренным образом переменилось, сохранились. Одно из них – подпись композитора под документом, известным как «Письмо тринадцати деятелей советской науки, литературы и искусства в президиум ЦК КПСС против реабилитации И. В. Сталина», датированным 25 марта 1966 года. Но к этому времени его жизнь уже сложилась так, как сложилось – под псевдонимом «Вано Мурадели».
Галина Вишневская в своей книге воспоминаний называет Мурадели бездарным. Бездарным он не был. Появись этот мальчик на свет в другое время, лет на тридцать раньше, из него мог получиться хороший музыкант, дарование которого раскрылось бы в чем-то более достойном, нежели обслуживание пропагандистских нужд советского государства. Впрочем, вряд ли малограмотный рабочий из небольшого закавказского города, к тому же, увлеченный революционной деятельностью, смог бы отправить сына учиться в консерваторию.

Город Гори
Дома у Мурадовых много пели: отец любил грузинские песни, был знаком и с русскими, в основном из тюремно-революционного репертуара (запомним это!). У маленького Ованеса обнаружился красивый голос. Еще подростком он самостоятельно выучился играть сначала на гитаре и мандолине, потом на фортепиано и подрабатывал тапером в местном кинотеатре.
Окончив школу, уехал в Тифлис, где поступил в музыкальное училище, занимался вокалом и композицией, а затем, с отличными оценками, был принят в Тифлисскую консерваторию. Там его педагогами были Сергей (Саркис) Бархударян и Владимир Щербачев – оба ученики Максимилиана Штейнберга; из ленинградского класса Щербачева вышли, между прочим, Евгений Мравинский и Гавриил Попов.
Далее – работа в тбилисских театрах, а затем самопровозглашенный грузин (да-да, уже Вано Мурадели!) поступает в Московскую консерваторию, чтобы завершить свое образование под руководством главного профессора молодой советской композиторской школы Николая Мясковского.
И… попадает с корабля на «бал». 30-е годы. Жесткая борьба творческих объединений, в ходе которой «пролетарские», фактически самодеятельные, композиторы и критики старались лишить государственного субсидирования своих главных соперников, молодых профессионалов-консерваторцев, только что завершилась. «Пришел лесник и всех разогнал», а затем согнал в единый Союз композиторов.
Но внутри СК противостояние продолжалось, перейдя в фазу «позиционной войны», фоном которой была аппаратная борьба внутри системы управления культурой в СССР. Вскоре нарыв прорвался, болезнь перешла в активную фазу, ознаменовавшуюся травлей композиторов-«формалистов». Поводом к ее началу, как известно, явилось недовольство Сталина «сумбурной» оперой Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда».
Перипетии этой кампании я оставляю за рамками данного эссе. Но тем, кто имеет недостаточно четкое представление о том, как развивались события, я настоятельно советую черпать информацию не из популяризаторских статей и не из книги Соломона Волкова, «свидетельствовавшего» от имени Шостаковича, а прочитать фундаментальную работу Е. С. Власовой «1948 год в советской музыке». Автор приводит там множество документов эпохи строительства советской культуры и партийного руководства ею.
В 1936 году, когда разыгрался первый акт «антиформалистической» драмы, Мурадели был студентом Московской консерватории, но в нем уже вовсю звенел темперамент советского общественника. Не случайно именно он задал вопрос «из зала» по поводу отсутствия Шостаковича на московских собраниях. Этим дело и ограничилось, но Мурадели заметили те, кому полагалось все замечать.
В 1938 году его избирают комсоргом факультета и принимают в Союз композиторов. По окончании консерватории он становится членом президиума оргкомитета СК и возглавляет Музыкальный фонд. Поразительный карьерный взлет, но удивляться этому не приходится: в те годы подобное не было редкостью.

Вано Мурадели в молодости
С точки зрения советской номенклатуры, Вано Мурадели идеально подходил для административной работы в сфере музыкальной культуры: из рабочей революционно настроенной семьи, идейный, хороший организатор, наделен тем особым чутьем, наличие которого всегда, во все времена способствовало успешной административной карьере, и вдобавок «национальный кадр». А самое главное – композитор, удачно сочетающий в себе желание писать музыку, понятную массовому слушателю, с хорошей (не пролеткультовской) профессиональной подготовкой.
Нас интересует именно эта его ипостась.
По характеру своего дарования Мурадели типичный «прикладник»: ему бы песни писать, музыку для театра и кино. Он и писал. Но тут вырисовывается проблема, следы которой можно обнаружить в творчестве многих советских композиторов и более позднего времени. С одной стороны, песня – это то, что, по мнению вышестоящих товарищей, нужно народу, и прежде всего такая песня, которая «нам строить и жить помогает». С другой стороны, «академический» композитор, выпускник двух консерваторий должен работать в крупных жанрах и выдавать на-гора симфонии, оперы, кантаты.
Советское партийное руководство смотрело на искусство как на важную часть «идеологического фронта» и одновременно как на производство, где возможны нормативы, плановые задания и перевыполнение оных. Выучился на государственный счет, стал композитором – изволь создавать то, что нужно заказчику: монументальные звуковые полотна, отражающие светлую действительность и пафос борьбы с проклятым темным прошлым. Да и отношение коллег к тем, кто специализировался исключительно на песенном жанре и музыке к кино, было, мягко говоря, неоднозначным: зарабатывают они много, но… В общем, как сказал о гениальном Дунаевском гениальный Прокофьев: «У нас с ним разные профессии».
В дальнейшем, когда песне и киномузыке в какой-то мере удалось стряхнуть с себя мегатонную тяжесть идеологической нагрузки, это негласное деление на богатых «плебеев» песенников и скромных «аристократов», писавших симфонии, квартеты и оперы, в среде Союза композиторов только закрепилось. Вот и приходилось в 70-е-80-е годы композиторам, работавшим в «легком» жанре, особенно занимавшим ответственные посты в СК и Музфонде, время от времени «соответствовать» – предъявлять музыкальному сообществу свои грамотно написанные, но унылые симфонические поэмы и скучнейшие оперы.
Но вернемся к Мурадели. К моменту окончания консерватории он успевает попробовать себя в разных академических жанрах: создает несколько вокальных циклов (камерно-лирическая ветвь русской композиторской традиции), «Грузинскую пляску» для симфонического оркестра (ее же ориентальная ветвь). Но результатом занятий хорошего студента в классе профессора Мясковского, конечно же, должна стать симфония.
Надо сказать, что сам Николай Яковлевич, будучи человеком по-военному добросовестным (до 1921 года он служил в Военно-морском генеральном штабе), очень серьезно отнесся к своей миссии первого советского классика.

Николай Яковлевич Мясковский
Он не только искренне и упорно пытался осмыслить новую действительность в категориях симфонического жанра, но и внедрял эту фантастическую идею в головы своих студентов. Достаточно вспомнить 3-ю симфонию другого его ученика – Кабалевского, чтобы убедиться в неслучайности идейных и музыкально-лексических совпадений.
Правда, симфония Кабалевского посвящена памяти не Кирова, как у Мурадели, а Ленина, но на образном строе сочинения это различие никак не отражается.
Да и вообще, это раньше, в старорежимные времена симфония говорила о жизни и смерти, о любви и надежде, о страданиях и радостях, а теперь, в годы активного коммунистического строительства, она должна повествовать не о вечном, а о «главном». Причем конкретно-главном, тесно связанным с сегодняшним днем. Например, об авиации (есть у Николая Яковлевича «Авиационная» симфония, и трудился над ней он ее как раз в 1935-36 годах, когда Вано Мурадели был его студентом).
Но как бы там ни было, ученики Мясковского овладевали достаточно серьезной композиторской техникой в классическом корсаковско-глазуновском понимании. Овладел всеми необходимыми навыками и Мурадели. Что же мы можем увидеть в первом по-настоящему крупном произведении новоиспеченного симфониста?
Перед нами грандиозное, почти на 50 минут звучания, оркестровое полотно, вышитое по классической канве четырехчастного цикла. Если нацепить на нос очки, сквозь которые на эту дипломную работу смотрели экзаменаторы, она заслуживает следующих оценок:
Владение формой – 4+ (несколько затянуто, но все же не так чудовищно, как у буржуазно-декадентского композитора Малера).
Инструментовка – 5.
Идейное содержание – 5+
Все грани образной сферы симфонии легко поддаются идентификации:
– скорбное раздумье (медленный Мясковский):
– борьба (быстрый Мясковский):
– лирическое созерцание (медленный Глазунов):
– воспоминания детства (быстрый Глазунов):
Очень неплохого качества копии, сделаны явно даровитым музыкантом, но я бы предпочел оригиналы, Глазунова во всяком случае…
Мурадели, к сожалению, в принципе несвойственно симфоническое мышление. Ведь оно, как ни странно, выражается не столько в умении логично выстраивать грандиозные звуковые конструкции, сколько в способности продуцировать такую логику развития музыкальной мысли, которая будет изгибать линии этих конструкций в своеобразной, присущей только данному автору манере. Но такому искусству вряд ли можно у кого-то научиться, тем более у Мясковского.
Знакомство с музыкой 2-й симфонии, написанной в 1944 году, позволяет сделать вывод, что никакой ощутимой эволюции, никаких качественных скачков в творчестве Мурадели в дальнейшем не произошло: он по-прежнему пользуется раз и навсегда отобранной и утвержденной палитрой выразительных средств, грамотно применяя их «по назначению». Причем не только в симфониях.
Свободное оперирование нужными наборами средств-клише – штука чрезвычайно удобная, особенно когда нужно быстро и без особого напряжения написать нечто, отвечающее вполне определенным ожиданиям заказчика. Неважно, кто он: князь, пригласивший гостей к очередному (сотому?) обеду, Дом Романовых, отмечающий юбилей, или Политбюро ЦК ВКП(б). Разница только уровне эстетических притязаний заказчика и в регламенте отношений с ним.
Вот тут-то и зарыта собака. Раньше, когда дела складывались не лучшим образом, музыкант был волен отправляться на все четыре стороны и ловить удачу в другом месте, теперь же, в СССР, заказчик был один, единый и неделимый, и композитор, принимая заказ (пусть даже в фигуральном смысле, что называется, откликаясь на «общественный запрос»), в случае неудачи рисковал не только своим материальным и служебным положением, но и кое-чем посерьезней. И уйти ему было некуда.
Конечно, художественный результат во всех случаях зависит от степени таланта композитора. Если за дело берется такой гений как Прокофьев, то каким-то удивительным образом, по мановению серебряной волшебной палочки в руках неведомой феи, пошлый официоз превращается в шедевр. А если не гений? Тогда, прошу прощения, получается «формализм», пусть и достаточно высокой пробы. Да-да, он самый. Ведь формализм, вопреки общеупотребительному в те советские времена словесному штампу, понятие вовсе не стилистическое. И дело тут не в процентном содержании диссонансов…
С 1939 по 1941 год у Мурадели друг за другом следуют: поэма-кантата «Вождю», «Кантата о Сталине», Торжественная увертюра к 50-летию Молотова, «Песня-здравица» в честь Сталина… Главный вождь постановил,что «жить стало веселее», значит, трагедийные симфонии заказчику вряд ли придутся по вкусу – что ж, вполне логично.
Его подгоняет не только человеческое, но и творческое честолюбие: Мурадели решает замахнуться на оперу. В сотрудничестве с драматургом Мдивани он начинает трудиться над крупным произведением для театра, главным героем которого должен стать Серго Орджоникидзе.
Работа была прервана войной. Весной 1942-го, в связи с эвакуацией из Москвы деятелей культуры, Московский союз композиторов, членом президиума оргкомитета которого Мурадели являлся, фактически был распущен. Мурадели – в числе немногих композиторов, оставшихся в Москве. Его назначают руководителем концертной бригады и командируют на фронт. В 1942 году он возглавляет Центральный ансамбль ВМФ СССР, с которым выступает перед моряками Северного, Балтийского, Черноморского флота, ездит на Азов и Каспий. Ансамблю требуется репертуар, пригодный для военного времени, и Мурадели пишет патриотические песни: сейчас они действительно нужны.
Вообще, композитора-песенника Мурадели по-настоящему сделала война. И позднее, обращаясь к ее темам, к образам ее героев и ее жертв, он бывал искренен, и тогда у него получались вещи, которые производили на слушателей очень сильное впечатление: например, «Бухенвальдский набат», написанный в 1959 году.
Во время войны в советскую песню на смену бодрым (с изрядной долей американизмов) звучаниям Дунаевского приходят утяжеленные минором маршевые ритмы, возвращающие, на новом витке, к стилистике предыдущего, революционно-военного времени.
Шло время, раны страны постепенно заживали. Но музыкальный стиль, вызванный к жизни войной, не только не сошел со сцены в мирные 50-е, но наоборот, упрочился и, я бы сказал, академизировался, приобретя теперь уже значение обще-патриотического.
Как мы помним, первый пласт советских революционных песен построен на сочетании энергичных, но тяжеловесных маршевых ритмов с сентиментально-проникновенными интонациями, прямо восходящими к тюремному фольклору (здравствуй, папа Илья Петрович Мурадов!). И вот эта самая многозначительная минорная проникновенность, закрепляясь в советском песенном официозе, начинает ассоциироваться уже не с войной и не с революцией, а с образом «серьезного человека» – патриота, космонавта, ученого, рабочего-ударника, партийного руководителя.
Откуда такой минор беспросветный, для чего?! Ну как же – чтобы звучало государственно.
В 1944 году Мурадели демобилизуется в чине подполковника, а когда из эвакуации в Москву возвращается, так сказать, личный состав Союза композиторов, он становится секретарем столичной организации.
И почти сразу же вновь приступает к сочинению оперы. Руководство страны придавало строительству новой, советской оперы огромное значение, и Мурадели возлагал на свое детище огромные надежды. Во-первых, это был большой и очень ответственный государственный заказ: – к 30-летней годовщине революции. Во-вторых, оперу предполагалось поставить во всех (28!) оперных театрах страны, в том числе и в главном, Большом театре, причем с превеликой пышностью.
И действительно, до того как над постановкой оперы Мурадели начали работать в Большом театре, ее премьеры состоялись более чем в десяти городах и освещались прессой в самом позитивном ключе. Если бы в столице все прошло благополучно, Мурадели по праву (как ему казалось) занял бы вакантное место первого оперного композитора страны.

Вано Ильич Мурадели
Тут так и хочется задать один вопрос. Дорогие коллеги-композиторы, что вам больше по вкусу: крупный заказчик-государство, который, сколько бы вы ни уповали на его объективность, все равно предпочтет тратить деньги на то, что с точки зрения истеблишмента приносит пользу – или же полная свобода делать что угодно при столь же полном равнодушии общества, утратившего четкую сословную структуру, а вместе с ней и милые привычки типа устройства домашних квартетных вечеров?
Вопрос бестактный и даже провокационный, согласен. И, казалось бы, ответ на него очевиден: свобода и чистая совесть дороже. Но в реальности дело обстоит не так просто – во всяком случае, если судить по регулярным выступлениям в прессе лидеров наших творческих композиторских объединений, в том числе вполне авангардистского толка, призывающих государство к системной поддержке современной музыки (естественно, той ее области, которую представляют именно они).
Прошу прощения, я отвлекся…
Для укрепления «содержательной» части оперы в помощь композитору руководством Большого театра была направлена чуть ли не бригада драматургов, которые по ходу дела вносили новые и новые изменения. В результате либретто получилось рыхлым и неубедительным.
Кто-то из знающих людей в театре намекнул композитору, что название «Чрезвычайный комиссар», прямо указывающее на фигуру Серго Орджоникидзе, не вполне уместно. Опера стала называться иначе, однако Мурадели был не в курсе самого важного – что Орджоникидзе, которого он, между прочим, искренне чтил, оставался безвременно умершим близким другом «отца народов» лишь по версии официальной пропаганды. На самом деле в 1937 году он, по свидетельству родных, покончил жизнь самоубийством, понимая, что вскоре может стать такой же жертвой террора, как его старший брат и многие «старые большевики».
В этом контексте новое название оперы – «Великая дружба», прославляющее объединение кавказских и русского народов под руководством славного комиссара Серго, должно было резать ухо Сталина своей мрачной двусмысленностью.
Кроме того, реальные исторические события подавались в опере достаточно правдиво и, соответственно, противоречили продвигаемой вождем версии о позитивном, в отличие от депортированных ингушей и чеченцев, отношении осетин к революционной России. Н-да, за всем не уследишь…
Сталину опера категорически не понравилась. Он остался недоволен буквально всем: «политически ошибочной» фабулой, центральным персонажем, а главное, музыкой, в которой он не услышал любимых им грузинских народных мелодий. Наконец, его возмутила чудовищная сумма потраченных денег.
Главный куратор культуры Жданов, положение которого и без того к концу 40-х годов сделалось шатким, перепугался до смерти. В самом буквальном смысле этого слова.

А. А. Жданов
Его карьера повисла на волоске, а кому, как не ему, было знать, что карьеры кремлевских деятелей обрывались в то время вместе с жизнью. И неважно – женат твой сын на дочери генералиссимуса или нет: сегодня ты свояк «Самого», а завтра жалкий раздавленный червь, а то и труп.
Жданов решил разыграть карту, которая казалась ему наиболее верной, и свалить вину за провал на творческую интеллигенцию. Пусть снова, как в 36-м году, топят друг друга в попытках выплыть из-под накатившей на них грозной волны. Тем более что это было вполне в русле планомерных усилий Политбюро ЦК по приведению «в субординацию» народа, глотнувшего вместе с воздухом Победы запаха свободы. Новые «декабристы» руководству страны были ни к чему.
Дальнейшее известно: три варианта Постановления (Сталиным был принят не самый жесткий, но все равно чреватый крупнейшими неприятностями для его фигурантов), шумная кампания в прессе, агрессивные выступления некоторых музыковедов, унизительные покаяния композиторов и некрасивые телодвижения известных на всю страну людей…
Оголтелая травля «формалистических извращенцев» – Шостаковича, Прокофьева, Шебалина, Мясковского «и их подражателей». Спровоцированная всей этой вакханалией болезнь Прокофьева, вскоре его погубившая. Наконец, внезапная смерть от сердечной недостаточности самого режиссера мерзкого спектакля – Жданова. Тех, кому неизвестны подробности, я опять-таки призываю прочитать книгу Власовой. Сам же возвращаюсь к злополучной опере нашего героя.
Если бросить на это произведение профессиональный взгляд, мы увидим, что оно никоим образом не соответствовало предъявленным Мурадели обвинениям в «антинародном новаторстве» музыкального языка. Характеризуя музыку «Великой дружбы» максимально кратко, я бы назвал ее «обобщенно-оперной». Лирика (на этот раз псевдо-глинкинская), патетика (псевдо-Мусоргский), ориентализм, танцевальная экзотика – все «правильно», и все формально. Формально в прямом, а не в извращенном смысле слова. Персонажи лишены образной характерности, ситуации – характерности драматической. Вокальные партии просты для исполнения и вроде бы мелодичны, но слуху зацепиться буквально не за что.
Так почему бы не предположить, в порядке фантастической гипотезы, что раздражение Сталина было вызвано даже не столько «неправильным» либретто, сколько тем, что он не получил того, чего ждал от этого грандиозного дорогостоящего проекта – хоть одной яркой, запоминающейся, духоподъемной мелодии?
– Как это получаэтся, а? Простой грузинский дэвушка может написать красивый пэсня «Сулико», а советский композитор с двумя консерваторскими образованиями – нэт! Обидно, слушай. Вы согласны, товарищ Жданов?
Вано Мурадели, «Великая дружба». Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио, дир. Георгий Жемчужин:
Текст, конечно, звучит анекдотически, пробирает до слез. Но это сейчас. А тогда… Что, если бы генсек вышел из театра, напевая мгновенно полюбившуюся тему? Может быть, пронесло бы?
Думаете – бред? А кто сказал, что отечественная история когда-нибудь была вменяемой? Помните, что случилось «потому что в кузнице не было гвоздя»?
Или, если переложить на текущий исторический момент – потому что у Вано Ильича не нашлось для оперы ни одной хорошей мелодии…
Я, конечно, фантазирую. Нет, не пронесло бы ни в каком случае. Не в этот раз, так в следующий непременно бы накрыло.
Мурадели отделался «легким испугом»: перенесенным на ногах инфарктом и крушением своих амбиций. Впрочем, будучи человеком умным и, если можно так выразиться, творчески оборотистым, он сумел вскоре поправить положение собственных дел. Его «Гимн международного союза студентов» и песня «Москва – Пекин» (1949 и 1950 годы соответственно), понравились Генералиссимусу.

Сталин и Мао Цзэдун – пропагандистский плакат
На Мурадели посыпались премии, звания и прочие блага. И далее, невзирая уже на перемены на политическом Олимпе, Мурадели продолжал возделывать безопасную и плодоносную песенную ниву, меняя лишь стиль в соответствии с требованиями времени.
В 1949 году правительство решает все-таки добиться появления «нормальной» советской оперы, патриотической по духу и народной по музыкальному стилю. Объявлен конкурс на создание двенадцати (!) опер, нескольким ведущим композиторам выплачиваются крупные авансы. На создание оперы о революции «Октябрь» подряжают… Шостаковича. Почему бы и нет – товарищ композитор наконец все понял, не правда ли?

В. И. Мурадели, Г. В. Свиридов, Д. Д. Шостакович
Однако Шостакович эту оперу так и не написал. И через некоторое время заказ был передан Мурадели. Надо сказать, он тоже волынил как мог и взялся, наконец, за реализацию этого замысла лишь через 10 лет.
Вскоре после смерти Сталина обновленное партийное руководство вновь, уже в который раз озаботилось проблемами советской музыки и отдельно – оперы. После кампании 1948 года государство поняло, что намного выгоднее и эффективнее покупать композиторов, нежели пытаться заставить их служить себе силой. Теперь этот принцип восторжествовал в полной мере.
На оплату творческого труда выделялись огромные деньги, не говоря уже о таких привилегиях, как квартиры в прекрасных новых зданиях, путевки в дома творчества, персональные автомобили и тому подобное. Министерство культуры финансировало исполнение практически всех сочинений, создаваемых членами Союза композиторов, и даже партитуры «антисоветских» (или все-таки советских?) композиторов-модернистов оплачивались и издавались. Представительские расходы, ничего не попишешь…
В 1964 году на сцене Кремлевского Дворца съездов состоялась премьера оперы «Октябрь», в которой перед изумленной публикой появился В. И. Ленин и – неслыханная новация и смелость! – не только что-то говорил, но и кое-что пел.
Увы, и эта опера Мурадели оказалась в музыкальном отношении слабой, еще менее выразительной, чем первая. Композитор копирует самого себя, воспроизводя тот пафосный мертвый стиль, одним из создателей которого он являлся и который был растиражирован в десятках, если не сотнях советских опер.
А ведь мелодии, живые и обаятельные, у Мурадели были. Но весь свой мелодический дар, пусть не гениальный, но вполне отчетливый, он потратил на песни.
Правда же, Мурадели здесь как будто кто-то подменил? В хорошем смысле.
Мелодии в песнях или в кино – это пожалуйста, сколько угодно. Но только не в опере. Точно так же действовали его многочисленные последователи, в том числе талантливые. Их песнями заслушивалась вся страна – а в партере театра на каком-нибудь «Петре Первом» или «Маяковском» мухи дохли от скуки…
Прошло много лет. Композиторам давно никто не указывает «сверху», как нужно писать музыку. Но «Постановление» довлеет над нами до сих пор. Только уже в другом смысле – прямо противоположном. Если вы сегодня осмелитесь сказать вслух, что хотели бы услышать в современной опере и вообще в профессиональной музыке мелодию, что вам не хватает там красоты, выразительности, естественного чувства, наконец, внутреннего родства музыкального языка с пластами бытовой культуры, вы немедленно услышите сакраментальное: «Ждановщина!!!»
Постановление 1948 года продолжает работать – в кривом зеркале глубоко травмированной психики композиторско-музыковедческого сообщества. И тут требуется отдельное обследование. Тщательное, без формализма.