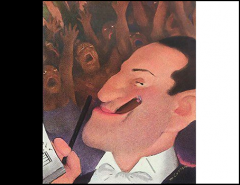Летний день на оперном закате
Опубликовано в classicalmusicnews.ru
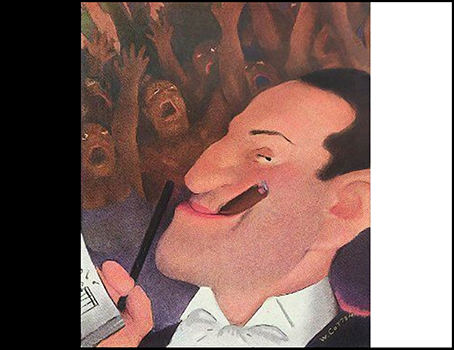
Пожалуй, ни одно произведение не занимает в истории оперы положения столь уникального и вместе с тем странного, как «Порги и Бесс» – шедевр, созданный гениальным американцем Джорджем Гершвином, родившимся в семье двух иммигрантов из Санкт-Петербурга.
Нам известно множество случаев, когда оперы, приобретшие широкую известность, оказывали воздействие на творчество других композиторов. Достаточно сопоставить то, что делал в своих ранних сочинениях Вагнер, с достижениями Вебера и Мейербера или вспомнить, как повлияло на Чайковского знакомство с оперной музыкой Сен-Санса и Бизе.
ХХ век продемонстрировал нам иную возможность – когда композиторы в массовом порядке начали ориентироваться на образцы, представлявшие для них профессиональный интерес, при том что музыка этих произведений так никогда и не полюбилась оперной публике. Парадокс? Несомненно.
Но «Порги и Бесс» – феномен еще более удивительный. Трудно найти человека, которому не знакома мелодия «Summertime». Соперничать с ней в популярности может разве что «хабанера» Кармен. Ария Порги и песенка Спортинг-Лайфа тоже, что называется, на слуху. Но попробуйте найти в ХХ веке оперу, автор которой попытался осмыслить и применить по-своему творческий метод Гершвина! Искать придется долго.
Более того, попытавшись заговорить о «Порги и Бесс» со специалистами, композиторами и музыковедами, вы рискуете столкнуться с непониманием, а то и пренебрежением. Многие из них предпочли бы не называть это произведение оперой, а отнести его к жанру мюзикла или, в крайнем случае, обозначить компромиссно-расплывчатым термином «балладная опера», намекающим на некую академическую неполноценность.
Двусмысленность ситуации усугубляется тем фактом, что в театрах это сочинение Гершвина часто ставится в адаптированном варианте, облегченно-урезанном и лишенном речитативов, написанных автором. То есть, в отношении «Порги и Бесс» осуществляется процедура, обратная той, которой была подвергнута «Кармен»: там, чтобы реализовать оперный потенциал произведения, пришлось добавить к нему речитативы, а здесь у оперы отнимается существенная часть материала, и все это для того, чтобы сделать ее похожей на мюзикл.
Но, может быть, и в самом деле Гершвин, как говорится, замахнулся не по чину? Хотел создать оперу, да не сумел. Попробуем в этом разобраться.
До «Порги и Бесс» у Гершвина было две попытки подхода к оперному снаряду. Первая, юношески-нахальная, в 1922 году – одноактная опера для очередной серии ежегодного бродвейского ревю «Сплетни» (The Scandals). В «Сплетнях-1922» обнаружилась нехватка материала, и ее требовалось срочно чем-нибудь заткнуть, причем времени на это оставалось не более пяти дней. Интересно, как справился бы с таким заданием Россини?
Гершвин, в ту пору только начинавший свою карьеру на Бродвее, вместе со своим приятелем поэтом-песенником Бадди ДеСильвой решили, что небольшая «оперка» из жизни – внимание! – гарлемских негров будет тут в самый раз. Работать пришлось круглосуточно, но получасовая опера «Синий понедельник» («Blue Monday» или, если использовать русский аналог, «Понедельник день тяжелый») была написана и вставлена в ревю. И… провалилась с треском. Зрители, пришедшие на веселое представление, были не готовы к тому, что их начнут «грузить» веристской историей со страстями и убийством.
Мнения критиков разделились. Большинство рецензентов было солидарно с тем, что «“Синий понедельник” – глупейший, невероятно мрачный скетч из жизни негров». Но нашлись и такие, кто увидел в этом незрелом сочинении молодого Гершвина первую настоящую американскую оперу, которую будут помнить и через сто лет. Как ни странно, они оказались правы.
(К сожалению, запись анонимная. Но «Blue Monday» действительно ставят и в наши дни.)
Опера – великое искушение для композитора. Но опасное. История знает примеры, когда композиторы, создававшие шедевры в симфонической, камерной и даже кантатно-ораториальной музыке, в опере демонстрировали посредственные результаты. Чего-то им недоставало: силы мелодического дара или способности мыслить в музыке театральными образами и ситуациями, а может быть – той степени творческой искренности, которая позволяет автору полностью раствориться в персонаже, в каждом из них. Джордж Гершвин был наделен всеми этими качествами в избытке, и они настойчиво требовали выхода.
В процессе поисков подходящего сюжета для либретто он наткнулся на небольшой роман Д. Хейуорда «Порги», только что вышедший из печати. Прочитав книгу, Джордж решил немедленно связаться с ее автором.
Он отыскался в Южной Каролине. Прямой потомок одного из 56 американцев, поставивших свои подписи под текстом Декларации Независимости, ДюБоз Хейуорд родился в Чарльстоне.

ДюБоз Хейуорд и его жена Дороти
После войны Севера и Юга экономическому процветанию этого приморского города пришел конец, и для семьи Хейуордов настали трудные времена. Жили они в бедном негритянском квартале, получившем у горожан наименование Cabbage Row (Капустная улица) – там селились уличные торговцы овощами.
ДюБоз хорошо знал безногого темнокожего калеку, передвигавшегося по улице на тележке, которую тащила коза. В один прекрасный день этот мирный и добродушный человек был отправлен в тюрьму за то, что стрелял в местного хулигана, терроризировавшего весь околоток.
Случай этот произвел большое впечатление на Хейуорда: он бросил работу на складе и уселся за письменный стол. Вышедший из-под пера начинающего писателя роман «Порги» сделал его знаменитым и вытащил из нищеты.
К предложению композитора о сотрудничестве автор бестселлера поначалу отнесся без энтузиазма, поскольку как раз в это время совместно со своей женой Дороти был занят переделкой «Порги» в пьесу для драматического театра. И через некоторое время Гершвин переключил свое внимание на другой объект. Им оказалась фантастическая драма «Дибук, или меж двух миров» Семена Ан-ского (Шлойме-Зейнвла Раппопорта), поставленная в небольшом нью-йоркском театре и благосклонно принятая критиками.
Жизнь ее автора, родившегося в местечке под Витебском в семье с ортодоксальным укладом, отправившегося по окончании иешивы по деревням необъятной империи с проповедью особого русского пути, близкого друга священника-эсера Гапона (того самого), учредителя Аграрной партии России, автора перевода «Интернационала» на идиш, писателя и фольклориста, достойна подробного описания. Но, к сожалению, не в рамках данного эссе.

Семен Акимович Анский
Содержание же пьесы Ан-ского вкратце таково: еврейский юноша, разлучённый с возлюбленной, обращается за помощью к каббале. Общение с потусторонними силами превращает его в диббука – демона, который вселяется в девушку, ставшую невестой другого.
Казалось бы, что может быть общего между миром манхэттенских музыкально-театральных развлечений, с которым Гершвин с юных лет был связан, и сферой деятельности злого духа из хасидских легенд? Гершвин никогда не проявлял интереса к еврейскому мистическому фольклору, не был религиозен и в многочисленных интервью говорил о себе так:
«Я принадлежу к американскому народу и к сегодняшнему времени».
Некоторые из друзей композитора говорили ему, что из его затеи вряд ли получится что-нибудь путное – уж больно далек от него мир героев Ан-ского.
Я не уверен, что они были правы. И дело тут не только в том, что прадеды Гершвина жили в черте оседлости. Гораздо важнее другое: среди корифеев легкого жанра, работавших на Бродвее и Тин Пэн Элли, было много выходцев из этой среды. Они привнесли в американское музыкальное «рагу» такую порцию родственных себе ингредиентов, что многое из этого, даже не будучи сознательно идентифицированным в культурно-национальном смысле, не могло не быть у Гершвина на слуху.
К тому же он намеревался поехать в Польшу, чтобы пожить какое-то время в еврейском городке и впитать в себя атмосферу этого места, музыку речи живущих там людей, мелодику их песен, пластику танцев… Но все сложилось иначе.
Когда в прессу просочилась информация о том, что автор популярных мюзиклов «О, Кэй!», «Сумасшедшая девчонка», «Пою о тебе», не говоря уже о знаменитой «Рапсодии в голубых тонах», готов взяться за оперу и даже заключил договор с Metropolitan Opera, сенсационная новость была молниеносно растиражирована прессой. И очень скоро из Италии пришла телеграмма с предупреждением: права на создание оперы по пьесе Ан-ского уже отданы другому композитору – Лодовико Рокка.
Гершвин был не из тех, кого обескураживают неудачи. Но мысль о том, что он может, способен написать оперу не давала ему покоя. В 1932 году он вновь обращается к ДюБозу Хейуорду. И на этот раз автор «Порги» отвечает согласием.
Однако когда композитор и драматург наконец приступили к обсуждению деталей совместной работы, возникла новая проблема. Выяснилось, что поддерживая в переписке с Гершвином его идею народной оперы, Хейуорд подразумевал под этим нечто, в своей основе напоминающее бродвейский мюзикл. Ему виделся спектакль с разговорными диалогами, пантомимой и вставными вокальными номерами. Он полагал, что
«...такие эпизоды как, например, сцена драки, можно построить как единое структурное целое при помощи соответствующего освещения, оркестровых красок, стенаний толпы, общего крика ужаса, раздающегося на сцене, и так далее, без всякого пения».
Но Гершвин вовсе не собирался создавать еще один мюзикл – их у него было более чем достаточно. Ему пришлось дважды летать в Чарльстон, чтобы убедить Хейуорда в жизнеспособности своего замысла. ДюБоз принялся за создание драматической основы либретто, написал он и часть текстов для сольных номеров (например, знаменитую колыбельную Клары), а затем к работе подключился постоянный соавтор Джорджа его брат Айра.

Трое соавторов
Лето 1934 года Гершвин провел на Фолли-Айленде, одном из островов, расположенных в прибрежной зоне Южной Каролины неподалеку от Чарльстона: он совершил погружение в музыкально-бытовую среду, подобное тому, какое планировал, собираясь писать оперу «Диббук».
Значительную часть населения островов составляли галла – потомки рабов, привезенных когда-то из Анголы для работ на плантациях и сохранивших многие особенности традиционного для африканцев уклада жизни.

Дом на Folly Beach
Эти места были настоящей сокровищницей негритянского фольклора, провозвестника джаза. А именно с джазом – эта идея оформилась у него давно – Гершвин хотел соединить классическую оперу.
Он раздобыл в Чарльстоне старенькое пианино и поселился в деревянном доме на берегу моря вместе со своим кузеном Генри Боткином, художником. Живописец и композитор наблюдали за жизнью, работой, молитвами и отдыхом обитателей этого замкнутого, почти первобытного мира; один больше смотрел, другой слушал. Впрочем, глазами художника обладал и Джордж.

Комната, где была создана опера «Порги и Бесс». Акварель Джорджа Гершвина.
Хейуорд, иногда сопровождавший Гершвина во время его прогулок по окрестностям, позднее вспоминал:
«Негры гордятся своим, как они говорят, “музыкальным криком”. Он проходит под прихотливый ритмический аккомпанемент, выбиваемый руками и ногами. Это и есть спиричуэлс, и он, несомненно, африканского происхождения.
Мне никогда не забыть, как однажды ночью на одном из отдаленных островов Джордж в компании группы негров “кричал” их спиричуэлс. В конце концов, к их изумлению и восторгу, он вышел победителем, “перекричав” лучшего местного “крикуна”. Думаю, что он единственный белый человек во всей Америке, которому это удалось».
Зимой 1935 года работа над «Порги и Бесс» была в целом завершена. Дирекция Metropolitan Opera предложила Гершвину выгодный контракт. Это освободило бы композитора от большей части постановочных хлопот, не говоря уже о финансовых. Тем не менее он решил доверить постановку Театральной Гильдии – американской организации продюсеров, актеров и авторов. И даже принял участие в финансировании этого антрепризного проекта вместе с братом Айрой и ДюБозом Хейуордом.
Это был большой риск, но дело в том, что в «Мет» партии Порги, Бесс и других персонажей оперы пели бы загримированные под негров артисты, прошедшие кастинг в театре. А Гершвину хотелось видеть в этих ролях афроамериканцев.
Однако найти среди них необходимое количество певцов, обладавших соответствующей профессиональной выучкой, оказалось непростой задачей. Ведь классическая опера в силу очевидных исторических причин была «белым» искусством, воплощающим на сцене преимущественно жизнь европейцев. Добавьте сюда мощный фактор расовых предрассудков – так откуда же в таких условиях взяться темнокожим оперным певцам?
И все-таки они были.

После прослушивания нескольких сотен кандидатов на роль Порги был приглашен Тодд Данкен, баритон из негритянской труппы The Aeolian Opera Company, поставившей «Сельскую честь» Масканьи. А партия главной героини была отдана молодой певице-сопрано Энн Браун, занимавшейся в Джульярдской школе музыки. Она сама предложила композитору свою кандидатуру, и у нее получилась великолепная Бесс. Остальные артисты труппы представляли собой довольно пеструю картину: некоторые из них занимались академическим вокалом, другие были просто драматическими актерами или танцовщиками с неплохими вокальными данными, как, например, Джон Бабблз, первый исполнитель роли Спортинг-Лайфа, который даже не знал нот.

Джон Бабблз, Тодд Данкен и Энн Браун, 1935 г., сцена из «Порги и Бесс»
Существует устойчивый миф о том, что Гершвин в своем завещании указал, что в «Порги и Бесс» должны петь исключительно негры. Это неправда: композитор умер, не успев составить завещание. И после его смерти опера неоднократно и с огромным успехом исполнялась в европейских театрах силами местных трупп, в обычной академической манере.
При этом часть специфически-негритянского колорита неизбежно пропадала, но так ли это существенно? Между прочим, и в нашей стране с «Порги и Бесс» публику впервые познакомили отечественные артисты. Исполнение – без оркестра, под рояль, состоялось в Музыкальном театре К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко 14 мая 1945 года – каково!
Интересно, что в процессе подготовки оперы к премьере Гершвину пришлось приложить немало усилий, чтобы донести до солистов, особенно профессиональных певцов, воспитанных на классических образцах европейской музыки и овладевших техникой академического вокала, как им следует петь и как двигаться, чтобы артикуляция, интонация, тембр голоса и даже мимика вызывали ассоциации с образами обитателей бедных негритянских кварталов. Репетиционный процесс шел непросто, и толика «черной» крови у артистов (а ее доля у всех была разной) вряд ли всерьез помогала им перестроиться.
1935 год, оригинальная постановка. Бесс – Энн Браун.
Как мы видим, манера пения здесь далека от той утрированно-джазовой, в какой впоследствии «Колыбельную» стали исполнять многие негритянские эстрадные артисты.
Кино приучило нас к достоверности деталей «картинки». Но так ли это нужно в опере, искусстве в самой своей основе очень условном? Если бы Гершвин написал «Диббука», неужели он бы настаивал на том, чтобы партии всех героев там исполняли артисты еврейского театра? Нет, он намеревался доверить эту оперу Metropolitan Opera.
Но в случае с «Порги и Бесс» «аутентичность» исполнителей, с его точки зрения, имела значение. Гершвин с глубоким отвращением относился к расизму в любых его проявлениях; многие из друзей и коллег автора «Порги и Бесс» были неграми. Он считал расовую сегрегацию позором страны и хотел предоставить афроамериканцам возможность самим рассказать о себе. Единственный «белый» персонаж в его опере – это полицейский. И он не поет!
Идея Гершвина реализовывалась не без труда. Так, во время гастролей труппы «Порги и Бесс» в Вашингтоне дирекция Национального театра, заявила о недопустимости присутствия в зале темнокожих зрителей. В ответ на это артисты отказались выходить на сцену. Потребовалось вмешательство самого композитора, чтобы сломить сопротивление театрального начальства и преодолеть этот кризис.
Но и после того как сегрегация в США была упразднена, по крайней мере официально, злоключения «Порги и Бесс» на расовой почве не прекратились, только теперь удары стала наносить противоположная сторона.
В 60-70-х годах в негритянских газетах и журналах Америки разгорелась пропагандистская кампания по обличению «клеветнического» произведения Гершвина-Хейуорда, якобы изображающего афроамериканцев людьми, лишенными интеллекта и нравственных устоев. Под давлением общественности театры были вынуждены отказываться от спектакля. Поистине, человеческая глупость и неблагодарность не имеют границ, расовых в том числе…
Мне неприятно об этом говорить, но с практической точки зрения сделанный композитором выбор в пользу бродвейской постановки принес его произведению гораздо больше вреда, чем пользы. Заданные рамки не оставляли для «Порги и Бесс» никаких иных вариантов существования, кроме антрепризного проекта, вынуждая оперу жить по законам мюзикла. И это обстоятельство сыграло в ее судьбе роковую роль.
Первое исполнение «Порги и Бесс» (в постановочную команду вошли дирижер Александр Смолленс, режиссер Рубен Мамулян и знаменитый художник-декоратор Сергей Судейкин – все они в разное время эмигрировали из России.) состоялось 30 сентября 1935 года в бостонском Colonial Theatre.

Сцена из спектакля в «Колониальном театре», Бостон, 1935 год
Такого рода показы на выезде были обычным делом, они давали возможность авторам проекта оценить его плюсы и скрытые недостатки проверить реакцию публики и разогреть интерес перед главной премьерой – на Бродвее.
Публика была в неописуемом восторге. Спектакль то и дело прерывался аплодисментами, а финал ознаменовался овацией, у многих в зале глаза были мокры от слез – это была грандиозная победа.
Спустя две недели в зале Alvin Theater нью-йоркская публика, намного более избалованная и взыскательная, продемонстрировала такое же единодушие.
А вот манхэттенские рецензенты приняли оперу Гершвина далеко не столь радушно. Так, Вирджил Томпсон, композитор-модернист, часто выступавший в роли критика, в статье, опубликованной декабрьском номере журнала «Современная музыка» (1935 года), назвал оперу Гершвина «вульгарной поделкой, самой бессмысленной из всего, что ему доводилось когда-либо слышать».
У Томпсона были причины для недовольства Гершвином: он тоже пробовал использовать исполнителей-негров в своей опере , правда, совершенно с иной целью, нежели Гершвин. И его сочинение имело весьма ограниченный успех.
Олин Даунс, постоянный автор «Нью-Йорк таймс» отчитал Гершвина за то, что стиль его музыки не чисто-оперный, а отдает в какие-то моменты опереттой, а то и развлекательным шоу. Один из самых авторитетных музыкальных критиков Джозеф Свейн тоже находил, что в «Порги и Бесс» многовато «популярных» мелодий, более уместных в мюзикле.
Леман Энгел, дирижер, в 1951 году записавший отрывки из оперы Гершвина на пластинку, в своей монографии «Американский музыкальный театр» проницательно замечает, что раздражение, которое это сочинение вызвало в «академических» кругах, прежде всего, было направлено на музыкальный язык Гершвина, а не на то, что композитор в реальности вложил в свою партитуру. Сам факт дефиниции «Порги» как оперы «оскорблял чувства тех, кто убежден, что подобное соседство унижает достоинство Вагнера, Верди и Моцарта».
Впечатление такое, что у американских интеллектуалов, во многом подражавших демократически настроенной европейской интеллигенции, выработался совершенно не демократический, а напротив, узко-кастовый взгляд на искусство. То, что ассоциировалось у них с народом и культурой «масс», вызывало реакцию отторжения. Интересно, что в имперском XIX веке подобной проблемы не существовало.
Сам Гершвин, отдававший себе полный отчет в значении того, что он создал, высказался об этом на страницах «Нью-Йорк Таймс» так:
«Мое мнение, что, помимо всего остального, опера должна быть развлечением. В ней должны содержаться все элементы удовольствия. Да, это правда, что я написал множество песен для “Порги и Бесс”. Но я не считаю сочинение песен чем-то легкомысленным. Я люблю хорошие песни.
Работая над «Порги и Бесс», я знал, что сочиняю оперу для театра и что без песен она не будет ни театром, ни развлечением. Такова моя точка зрения».
«Удовольствие», «развлечение» – опасные слова! Они очень нервируют ханжей. Прошло почти сто лет, и вот в рецензии на спектакль New York Harlem Theatre, опубликованной летом 2016 года в дрезденских «Последних новостях», критик снисходительно роняет: «Порги и Бесс» – это лишь развлечение, не более того, хотя и не менее».
Можно посочувствовать человеку, чьи уши и глаза так плотно закрыты идеологическими штампами, что не способны воспринимать пронзительную красоту, искренность и боль этой почти веристской драмы. Но хотелось бы понять: почему же так получилось, что стремление интеллектуалов отгородиться от буржуазных вкусов «толпы» и установка на то, «как важно быть серьезным», привели в итоге к утверждению на оперных сценах тотального «развлекалова» под видом актуализации классики? (Очередная заметка на полях).
Если бы исполнение «Порги и Бесс» было с самого начала прерогативой профессионального оперного театра, реакция критики на это произведение, возможно, оказалась бы более сдержанной. И уж во всяком случае, вероятность того, что через четыре года после безвременной смерти композитора его оперу превратят в мюзикл, была бы намного меньше. А именно так с ней и поступили. И вот почему.
В премьерном сезоне 1935/36 годов «Порги и Бесс» выдержали 124 представления. Для оперы это очень, просто невероятно много! Но не достаточно, чтобы окупить затраты на спектакль с полным составом солистов, хором и симфоническим оркестром, тем более в условиях конкуренции с намного более мобильными и компактными мюзиклами и ревю. Еженедельные расходы превышали 17 тысяч долларов, а кассовые сборы оказались существенно ниже уже в Нью-Йорке, не говоря о последовавшем затем гастрольном турне. Для публики, привыкшей к веселым шоу, трехчасовая опера, к тому же далеко не комедийного содержания, оказалась тяжеловатым развлечением.

«Порги и Бесс» на Бродвее, 1935 г.
В результате общий убыток инвесторов составил 70 000 долларов – сумма по тем временам немалая, хоть не катастрофическая. Гершвин, чье благосостояние не зависело от коммерческого успеха его оперы, отнесся к этому спокойно. Но цифры упрямая вещь, и спектакль был снят со сцены. А через два года композитора не стало…
В 1941 году в Театральной Гильдии было принято решение возобновить представления «Порги и Бесс», но при условии, что будет сделана новая постановочная версия, которая приспособит это произведение к вкусам массового американского зрителя. Почти никто, включая Айру Гершвина, не стал возражать против такого подхода, и этот проект был осуществлен театральным продюсером и режиссером Шерил Кроуфорд.
Партитура оперы подверглась радикальным сокращениям. Роскошный «равелевский» оркестр был урезан до 27 музыкантов, актерский состав уменьшен вдвое, речитативы были заменены разговорными диалогами, а темпы музыки ускорены. Все это сделало оперу похожей на обычный музыкально-драматический спектакль, и теперь было уже не столь важно, владеют ли исполнители техникой академического вокала, что, конечно, сразу же расширило возможности выбора артистов.
«Обновленная» версия «Порги и Бесс» имела у бродвейской публики гораздо больший успех. Да и критики сразу же успокоились: умерла так умерла по их мнению, теперь эта «недоопера» стала выглядеть намного лучше.
В таком виде, с некоторыми вариациями в постановках, то окончательно приближающих произведение Гершвина к «мюзикловому» формату, вплоть до попыток переделки финала в «happy end» с добавлением чужой музыки, то возвращающих часть утраченных оперных черт, «Порги и Бесс» покорили весь мир и стали приносить продюсерам и правообладателям долгожданную прибыль.
Казалось бы, что может быть важнее, чем сам факт доступа гениального произведения к публике – разве ради этого не стоит идти на компромиссы? Но вот ведь какая неприятность: этот компромисс был предательством по отношению к композитору, который не хотел писать очередной мюзикл. Весь пафос его работы был в том, чтобы создать оперу! И не просто оперу, а такую, которая была бы одновременно национально-ориентированной, современной и такой же доступной по музыкальному языку, как «Кармен», «Травиата», «Богема» и другие популярные классические оперы. Гершвину это удалось в полной мере. Согласился бы он с кастрацией своего самого любимого детища? Да никогда в жизни!
Это было очевидным нарушением воли автора, куда более серьезным, чем если бы его опера была передана в распоряжение «Мет». Однако единственным членом команды, готовившей совместно с Джорджем Гершвином первую постановку его произведения, который резко возражал против подобного обращения с великим шедевром, был Рубен Мамулян. Он пытался взывать к братским чувствам Айры Гершвина, но многолетний соавтор Джорджа отозвался о происходящем так: «Постановка Кроуфорд, конечно, паршивая, но я очень ценю гонорары, которые теперь получаю».
Фактор существенный. Но какое отношение он имеет к той аргументации, к которой так любят прибегать сторонники «адаптированной версии»? Разве не очевидно, что подоплека стремления ставить «Порги и Бесс» в виде «черного» мюзикла лежит не столько в сфере эстетики или морали, сколько в коммерческой?
Однако и сегодня, спустя восемьдесят с лишним лет, теоретический спор о том, что же все-таки такое «Порги и Бесс» – полноценная опера или мюзикл, как ни странно, для многих сохраняет свою актуальность. Попытаюсь на него ответить.
Да, верно то, что ни Моцарт, ни Пуччини, ни Чайковский не могут похвастаться таким баснословным количеством хитов, сконцентрированных в одной опере. Но судить на основании этого о жанрообразующих константах произведения столь же наивно, как и думать, что мелодии, обладающие высоким потенциалом популярности, не совместимы с понятием «опера». Это уже из области предписаний солнцу не всходить.
Тут невольно вспоминается рассказ Диккенса о его поездке в Геную и кучере, всю дорогу распевавшем арии из «Сомнамбулы» – надеюсь, Беллини никто не заподозрит в том, что он писал не оперы, а водевили?
Граница между «серьезным» и «легким» жанрами, при всей своей условности, существовала всегда: вспомним, например, разделение оперы на seria и buffa. Но только в ХХ веке, впервые за все время развития музыкального театра, о «высокой» или «развлекательной» направленности произведения стали судить по такому критерию, как наличие или отсутствие в музыке качеств, позволяющих ей завоевать любовь широкого круга слушателей.
Нет таких качеств – все в порядке, перед нами опера, серьезное, «элитарное» сочинение. Есть они – значит, мы имеем дело с мюзиклом. Чудовищный предрассудок! И вот результат: почти столетняя «расовая сегрегация» музыки и упадок в опере.
Чтобы понять, до какой степени «Порги и Бесс» не мюзикл, нужно выбросить из головы подобные ложные установки и обратиться к авторскому тексту.
Здесь и далее: Cleveland Orchestra, дидижер – Lorin Maazel. Порги – Willard White, Бесс – Leona Mitchell, Краун – McHenry Boatwright, Сирина – Florence Quivar.
Как тонко сплетаются в этом гибком выразительном речитативе приемы музыкальной декламации, характерные для веристской и новой французской (Дебюсси, Равель) оперы, с интонационными элементами негритянского фольклора! Одного сравнения этой изысканной мотивной работы с наивно-корявыми речитативными фрагментами «Фантома» Уэббера довольно, чтобы понять, где опера, а где нет.
Но как же быть с песнями в опере? Ведь «Порги и Бесс» создавались в то время, когда не то что песня – полноценная ария уже считалась пережитком прошлого, а непременными атрибутами современности объявлялись непрерывное развертывание музыкальной ткани и максимальная близость вокальных партий к звучанию человеческой речи.
Все верно. И Гершвин – единственный композитор ХХ века, спонтанно нашедший решение, с помощью которого можно было вытащить оперу из вязкого болота «правдоподобного речитирования». Таким решением, абсолютно новаторским, стало использование песни, но не как вставного номера, а на месте арии. Песня, очень точно вживленная в ткань оперного тела, сообщила музыкальному материалу оперы небывалую доселе степень «интерактивности».
Герой, поющий арию, одинок. И каждый из нас, слушателей, переживает его состояние по-своему. В песне весь зал, захваченный общим аффектом, сливается в едином чувстве с персонажем, в которого перевоплощается исполнитель. И эта ситуация, перенесенная из эстрадной музыки в оперу, возвращает ей возможность прямого контакта публикой. Что может быть для оперы важнее, особенно сейчас, после десятилетий добровольно наложенной на себя композиторами анти-чувственной епитимьи?
Еще один камешек, о который часто спотыкаются рассуждающие о жанровой принадлежности «Порги и Бесс» – это не только песенная, но и танцевальная природа музыки оперы Гершвина. Разве это не из мюзикла?
Позвольте вас успокоить – нет. Все дело в том, что Гершвин, работая над своей оперой, имел дело с той же самой ритмоинтонационной средой, с которой американский мюзикл тоже был отчасти связан. Более того, после появления «Порги и Бесс» эта связь стала в мюзикле ощущаться намного ярче.
Такая же ситуация, кстати, во многом касается линии Гершвин – джаз. Многое из того, что у Гершвина нам кажется «слишком» похожим на джаз, на самом деле было подхвачено у него и растиражировано джазовыми музыкантами. Сам же композитор в период работы над оперой интересовался больше первоисточником, «пра-джазовым» негритянским фольклором и вообще музыкой, сопровождавшей повседневный быт темнокожих жителей Юга.
В уже цитированной мною статье в «Нью-Йорк Таймс», Гершвин писал:
«…поскольку содержанием “Порги и Бесс” стала жизнь американских негров, то традиционная опера обогатилась элементами, до того времени чуждыми этому жанру».
У южных народов эмоции очень часто выражаются в телодвижениях. Музыкальный быт темнокожих жителей Южной Каролины был ярким тому свидетельством: радость, скорбь, молитвенное состояние – все естественным образом преображалось у них в танец. И Гершвин сумел очень точно воспроизвести эту особенность.
Вы чувствуете, что Сирина не только выпевает, но и вытанцовывает свою скорбь на поминках мужа?
И даже молитва о рае, вернее, о поезде в рай (колоритнейшая деталь!) трансформируется здесь в истовый танец.
Только очень плоско мыслящие люди способны видеть в этом черты мюзикла, а не то глубочайшее проникновение в поведенческую психологию персонажей, которым всегда была так притягательна именно опера.
Какое невероятное обаяние излучает внутренне танцующий Порги, безногий калека!
Этот навсегда привязанный к тележке человек «встает» на защиту любимой женщины с такой почти зримой двигательной достоверностью, что просто мурашки по коже.
А какой изумительной эротической пластикой пульсирует дуэт Крауна и Бесс! Она его отталкивает и одновременно приманивает, притягивает. Это слышно и в притормаживающих движение разорванных триольных фигурах оркестрового аккомпанемента, и в изломанной мелодии вокальной линии, где резкие синкопы чередуются с вкрадчиво-«соблазнительным» покачиванием (так и хочется написать – бедер).
И все это протекает в завораживающе-напряженной ладовой атмосфере мажоро-минора. «Бесс не для тебя, она стареет» – ага, как же! Образ, с необычайной, зримой достоверностью передающий извечно-женское «не дам, но возьми».
В мюзикле такие тонкости просто не прочитываются. Скорее, нечто подобное вы обнаружите в итальянской опере, где повадка, манеры персонажа, его жесты и даже мимика часто тоже воплощаются через ритмические нюансы музыки.
Эта своеобразная «двигательная портретность» была издавна присуща итальянской комедии. Опера переняла у нее это свойство, но в ней «язык телодвижений» оказался тесно связан с элементами бытовых жанров. Гершвин делает в своей опере все то же самое, но только использует он американский музыкально-бытовой «словарь».
Но и это не все. Если постараться освободить свое сознания от гипнотического воздействия «расового» предрассудка, заставляющего видеть в «Порги и Бесс» продукт легкого жанра, сразу же становится понятно, что музыкальная «обстановка» этого дуэта отсылает нас еще и к сцене добровольного изнасилования из «Воццека».
Гершвин хорошо знал сочинение Берга и восхищался им, и это не прошло для него бесследно. К слову сказать, мюзикл никогда излишней откровенностью эротических сцен не грешил, в музыке во всяком случае. Это чисто оперное удовольствие.
Каков же жанр этой уникальной оперы? Сам композитор определял свое произведение как «народную оперу» – и он был абсолютно прав. Я бы поставил «Порги и Бесс» в тот не слишком длинный ряд произведений, в котором находится «Хованщина» Мусоргского.
И там, и здесь музыкой нарисованы яркие картины быта густо-народной среды со всеми сторонами ее жизни, вплоть до самых экстремальных – от богослужений до азартных игр и убийств. А любовный треугольник – Краун -Бесс-Порги, как и в случае с Марфой-Андреем-Эммой, является здесь узловым компонентом, все эти картины связывающим.
И у Мусоргского, и у Гершвина в опере есть персонажи, как бы двоящиеся в своей ролевой функции. Вот Шакловитый, доносчик, предатель и перебежчик, с апломбом убежденного государственника поет проникновенную арию о судьбах России. И это не сатира, он авторские чувства здесь передает, не больше, не меньше.
А вот интриган и наркоторговец Спортинг-Лайф поет провокационную антирелигиозную песенку-дразнилку. Мелодия прямо-таки змеится, извивается на хроматизмах, персонаж словно дает понять: я, конечно, пою о вранье, но не подумайте, что всерьез, я же просто шучу!
Но вместе с тем, этот демарш Спортинг-Лайфа выражает отношение авторов оперы к ветхозаветным ценностям, которые большинством американцев 30-х годов воспринимались как незыблемые…
Трагически ранняя смерть остановила Джорджа Гершвина, и теперь мы никогда не узнаем, какие оперные шедевры он мог еще создать. Ясно одно: он пошел бы дальше, вперед. Но у этой несбывшейся судьбы есть еще один печальный аспект. Опера «Порги и Бесс» в своем оригинальном виде была вновь поставлена в США… только через сорок с лишним лет после бостонской премьеры. А до театра Metropolitan Opera добралась лишь в 1985 году. Конечно, лучше очень поздно, чем никогда.
«Порги и Бесс», постер. Именно так многие и представляют себе это сочинение.
Но это длительное существование «Порги и Бесс» в неполноценном, упрощенном, уплощенном варианте, искажающем авторский замысел, повлекло за собой крайне неприятные последствия для оперного жанра в целом.
Представьте себе, что после смерти Мусоргского его товарищи по Балакиревскому кружку не стали бы добиваться возобновления «Бориса Годунова» в оперном театре, а решили использовать музыку оперы для драматического спектакля. Или для балета.
Очень может быть, что такой «проект» оказался бы успешным в коммерческом отношении. Но попробуйте вообразить жизнь русской и мировой оперы без «Бориса Годунова»: что бы случилось с «Игроком» и «Войной и миром» Прокофьева», с «Катериной Измайловой» Шостаковича? Да их просто не было бы!
А оперы Яначека, Пуччини, Дебюсси? Как минимум, они были бы совсем другими. Не верите? Прослушайте внимательно «Пеллеаса», а лучше проиграйте по клавиру.
Сложись судьба «Порги и Бесс» более счастливо, эта «Кармен» ХХ века ставилась бы сегодня в каждом оперном театре, и лицо современной оперы, было бы совсем другим. Очень возможно, что в качестве таковой мы с вами сейчас имели бы не «говорилку», скроенную по лекалам германского модернизма 20-х годов, а нечто намного более привлекательное для широких кругов меломанов. И тогда директорам оперных театров не пришлось бы искать выход из тупика репертуарной «окончательности» классики с помощью скандальных версий ее режиссерских прочтений.
* * *
P. S. (очень личное)
В тот летний день мне предстояло несколько часов протомиться на вокзале в ожидании поезда, который должен был увезти меня вместе с бабушкой и дедом на каникулы: к родственникам, речному пляжу, знаменитым пензенским помидорам. Но я знал, что в центре Москвы есть огромный магазин «Дом Книги», и дедукция подсказывала, что там непременно должны продаваться ноты. И я рванул в метро.
Ноты, действительно, обнаружились – к моему разочарованию, один-единственный небольшой прилавок в букинистическом отделе. Но зато, когда я возвращался на вокзал, в руках у меня был здоровенный клавир «Порги и Бесс», изданный в Москве в 1965 году. Сегодня это библиографическая редкость.

Это лето я вспоминаю как самое счастливое в моем отрочестве. В комнате стояло пианино. Когда взрослые отправлялись купаться, я ставил клавир на пюпитр и…
В свои 14 лет я уже хорошо знал многие оперы русских композиторов, а также Верди, Пуччини, Вагнера, Массне и других. О Гершвине мне было известно только одно – что это современный американский композитор (современными тогда у нас считались все, кто успел пожить и что-то написать в ХХ веке). И я заранее приготовился с усердием продираться к пониманию его музыки, как это было у меня с операми Прокофьева, ноты которого я увлеченно штудировал в то время.
О том, что творчество Гершвина как-то связано с джазом, я не имел ни малейшего представления, как, впрочем, и о самом джазе: «легкая» музыка в то время не входила в круг моих интересов. Не знал я пока и о том, что на вопросы о «Порги и Бесс» мои учителя будут отвечать удивленным взглядом и пожатием плеч. Поэтому я был свободен от предубеждений, хотя уже слышал от своих педагогов, что современное искусство непременно должно быть сложным для восприятия, иначе его нельзя считать серьезным…
Тем сильнее оказалось впечатление. Опера Гершвина поразила меня, как меткий выстрел – цель.
Это было абсолютно прямое воздействие. Если бы не «Порги», у меня, возможно, не раскололось бы так сознание и я в конце концов утвердился бы во мнении, которое транслировали мои учителя: что развитие музыки в ХХ веке следует рассматривать прежде всего с точки зрения эволюции композиторских технологий. Но Гершвин научил меня воспринимать современную музыку не умозрительно, а непосредственно, слухом – так же, как и любую другую. Спасибо ему за это.