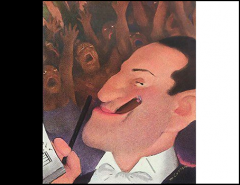Прерванный каданс (18+)
Опубликовано в classicalmusicnews.ru

Если верно, что гений – это очень одаренный человек, которому посчастливилось появиться на свет вовремя и там, где нужно, то к Александру Николаевичу Скрябину это относится в полной мере.
Родись человек с такими особенностями в другое время, лет на пятьдесят раньше, судьба его могла сложиться куда менее счастливо. Но Скрябину очень повезло: его жизнь совпала с той единственно возможной эпохой, когда такое творческое «я», как у него, могло реализоваться во всей своей полноте. Оно было абсолютно созвучно прекрасной до жути культуре Модерна, еще не сгоревшей в пожаре Первой мировой войны, но уже явственно попахивавшей адским дымком. Помните у Мандельштама – голову Парнока, «облысевшую в концертах Скрябина»?
Расставание с XIX веком в России, как и во всей Европе, сопровождалось глубоким мировоззренческим кризисом, и искусство того времени сделалось прямым его глашатаем. Занимавшие писателей «проклятые вопросы», которые в творчестве русских литераторов предыдущего поколения сводились к двум основным – «кто виноват?» и «что делать?» померкли перед новым, совсем уже неразрешимым и оттого внушавшим ужас: «ради чего?!»
Нам, знающим, через какие потрясения предстояло вскоре пройти России вместе со всей Европой, трудно удержаться от ретроспективного наделения художников того времени способностью предвидеть эти величайшие катаклизмы будущего. На самом деле катастрофа, дыхание которой они ощущали тогда, уже произошла: это была трагедия утраты христианского Бога.
Процесс был запущен еще в середине XIX века. В 1859 году из печати вышел труд британца Чарльза Дарвина «Происхождение видов». В 1860 году в Карлсруэ прибывшие из разных стран химики приняли научное определение понятий молекулы и атома. А вместо давно обещанного Царства Божьего на земле все более властно утверждалась власть его величества Капитала.
Дальше – больше. В 1882 году ушибленный дарвиновской теорией эволюции Фридрих Ницше заявляет: «Бог умер!» и приступает к написанию фундаментального труда, в котором низводит своих современников до жалкой промежуточной фазы между животным и преисполненным жаждой власти чуждым сомнений харизматиком. Через четыре года после опубликования последней части книги «Так говорил Заратустра» творец концепции сверхчеловека попадет в базельскую психиатрическую лечебницу, но дело сделано: идеи талантливого безумца еще долго будут очаровывать податливые умы. Не избежал этого влияния и Скрябин.
А в 1895 году Зигмунд Фрейд издает работу, в которой впервые формулирует мысль о том, что в основе эмоциональной жизни человека лежат переживания сексуального характера.
Тем временем первые авиаторы начинают всерьез покорять небо. И вскоре выясняется, что это сияющее пространство, веками утешавшее верующих и вдохновлявшее поэтов, замечательно пригодно не только для транспортного бизнеса, но и для военной разведки… а там и до массового уничтожения людей рукой подать. Во всяком случае, к началу Первой мировой войны общий парк самолетов европейских стран – будущих ее участниц уже составлял более 800 машин. Лидером в этой небесной гонке, кстати, была Россия.
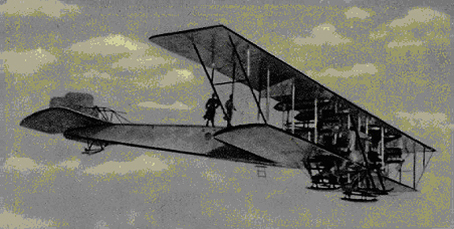
Самолет «Илья Муромец» И. Сикорского, ставший первым военным бомбардировщиком.
И что же получается? Нет ни Бога, ни бессмертия души, ни награды за правильно прожитую жизнь, ни высокой любви, ни – пусть даже когда-то в отдаленном будущем – установления царства справедливости? А как же тогда жить? И, главное, зачем? Люди с воображением оказались явно не готовы к самостоятельному плаванью по волнам грядущей истории. Призрак конца света бродил по Европе.
Чрезвычайно популярный в России Серебряного века итальянский писатель Габриеле Д’Аннунцио, восславлявший в своих стихах и прозе героику войны, эпикурейство и эротизм и, что вполне логично, сделавшийся впоследствии одним из идеологов фашизма, в 1893 году писал:
«Опыт закончен. Наука неспособна вновь заселить опустевшее небо, вернуть счастье душам, которых она лишила наивного мира. Мы больше не хотим правды. Дайте нам мечту».

Габриеле Д’Аннунцио – «Природа рулит!»
Мечту искали кто где. Пытались реанимировать религию, возлагали надежды на учение Маркса, ныряли с головой в философию, внимали мистикам, принимавшим сигналы непосредственно из астрала, уповали на скорое явление богочеловека, способного всколыхнуть «закончившуюся» историю и повести народы… куда? Куда-то!
Особенно увлекались идеей юберменьшества поэты: у них она напрямую связывалась с радостями творчества.
«Взорлил, гремящий, на престол!»
– любовался на себя Игорь Северянин. И не он один. Крики – «Я бог!» раздавались буквально на каждом перекрестке Серебряного века.
Все это сопровождалось невиданным доселе вниманием к тому, что впоследствии стало повсеместно обозначаться коротким, как выстрел, английским словом «секс». А тогда философствующие поэты предпочитали использовать высокопарно-красивые эвфемизмы: «эрос», «экстаз», «дионисийское начало» и т. п.
Эта тема, еще недавно табуированная, бурлившая в сокрытом от досужих взоров обывателя творческом котле романтиков, у художников Модерна внезапно сделалась явной и, как сказали бы сегодня, культовой. На территории Эроса можно было укрыться от космического одиночества… конечно, при условии, что плотские радости будут возведены в столь же космически-высокий ранг.
Тристану и Изольде еще нужен был любовный напиток, чтобы как-то обосновать высокий градус эротизма вагнеровской музыки. Лирическому герою, с которым без всяких экивоков самоотождествлялись художники нового поколения, никаких оправданий не требовалось.
«Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздий венки свивать.
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать!» –
заявляет добрый приятель Скрябина Константин Бальмонт.
«Кто в колесницу впряг эоны и века?
И чья бразды коней не выпустит рука?»
– вопрошает еще один его хороший знакомый, Вячеслав Иванов, и грозно указует перстом:
«Ты, Эрос яростный, их впряг!»
Вячеславу Ивановичу, несомненно, виднее, кто там куда впрягал эоны: слухами о нравах, царивших в его «Башне», упивалась вся читающая столица.
«Но, чем мука полней и суровее,
Тем восторженней песни хочу,
И кричу, и пою славословия,
Вечный гимн моему палачу.
О, приди, без улыбки, без жалости,
Снова к древу меня пригвождать,
Чтоб я мог в ненасытной усталости
Снова руки твои целовать».
А это уже брюсовская «поэма экстаза». Где вы, доктор Фрейд?
В общем, как писал Александр Гликберг, он же Саша Черный, один из немногих, кому удавалось сохранять чувство юмора в пряной атмосфере эротических восторгов, приправленных опиумным ароматом,
«Пришла проблема пола».
В Англии, стране, к которой Скрябин в последние годы жизни проникся большой симпатией, гениальный график Обри Бердслей со свойственной его нации иронией прокомментировал эту проблему так:

Рисунок О. Бердслея из серии иллюстраций к комедии Аристофана «Лисистрата»
Н-да, сразу понятно, кто тут юберменьш с самыми большими амбициями…
Таким был фон эпохи, на котором расцвело творчество автора «Божественной поэмы», «Поэмы экстаза» и «Прометея», безумного мечтателя, лелеявшего замысел создания гигантской «Мистерии», которая должна была привести человечество к счастью… конца света.
А ведь начиналось все очень мирно – с изумительных по красоте и своеобразию фортепианных миниатюр. И, между прочим, закончилось все тоже миниатюрами.
Скрябин, Этюд op. 2 №1. 1889 г. В. Горовиц; Скрябин, Прелюдия op. 74 №1 1914 год. Джон Огдон
Между этими фрагментами всего лишь 20 с небольшим лет, но в них уместилась целая творческая жизнь.
С самой ранней юности меня мучила загадка композиторской эволюции Скрябина: от нежнейшей, изысканно-чувственной, взволнованно-трепетной и теплой, идущей навстречу слушателю музыки начала – к холодным истерикам конца, запертым в строго ограниченном пространстве мастерски выполненных конструкций. Только для посвященных. А вначале было для всех.
Многие, пишущие о творчестве Скрябина, делают упор на грандиозность его произведений, прежде всего симфонических, «волевую героическую патетику» его музыкального языка. Между тем, уникальным качеством музыки Скрябина является вовсе не пафосность (пафоса в творениях многих поздних романтиков было более чем достаточно), а наоборот – обескураживающая интимность. Слушая монологи Шумана, можно отвлечься и задуматься о своем, можно замечтаться под Шопена или раздраженно отмахнуться от Бетховена. Отмахнуться от Скрябина вам не удастся. Воссоздавая в звуках самого себя, он заглядывает вам в глаза, откровенничает сверх всякой меры, поглаживает, прижимается и стремится слиться с вами до полной потери ощущения границ. А уж если вы общаетесь со Скрябиным, сидя за фортепиано, и он проникает в вас через подушечки пальцев, противиться этому просто невозможно!
Не будучи вокальной, его музыка создает у вас впечатление необычайно выразительной речи, тонко интригующей сменой своих интонационных нюансов. Таинственный шепот и восторженные возгласы, вкрадчивое воркование и крики страсти – все это является перед вами в свободных, но педантично продуманных одеждах ритма, волнующе ассоциируясь с тем неотразимо-женским темпераментом, в огне которого сгорают жизни и миллионные состояния.
Современники, сохранившие воспоминания о его пианизме (а Скрябин был гениальным исполнителем собственных произведений) рассказывали об обворожительной, камерной-интимной манере его игры, о пленительности нюансов пиано, о ласкающем прикосновении пальцев к клавишам, о поразительной технике владения педалью, позволявшей добиваться ощущения взволнованного дыхания живого существа, каким и был для Скрябина рояль.
Это – музыкальная эротика! Музыка Скрябина женственна по своей сути, и у меня есть сильное подозрение, что если произвести соответствующий опрос среди музыкантов и меломанов, выяснится, что среди влюбленных в нее существенно преобладают мужчины, а женщины, которым она нравится, наделены сильным «мужским» характером.
– Но писал-то эту музыку все-таки мужчина, и этот мужчина создавал не только фортепианные миниатюры, но и симфонические произведения, – скажете вы, и будете правы. Да, мужчина. Но не тот крупный «альфа-самец» типа Рахманинова, с волей которого приходится сражаться или покоряться ей, а капризное существо хрупкой конституции, которое жаждет трепетного, интимного соединения с вами и одновременно – безраздельного господства. Собственно, внешний облик Скрябина, невысокого человека астенического телосложения, с победоносно встопорщенными усами, призванными, по примеру императора Вильгельма II компенсировать этот недостаток, всегда франтовато одетого, с походкой балерины и манерами нежного избалованного ребенка, вполне соответствует этому стилю.
Он и был избалованным ребенком – в младенческом возрасте потерявшим мать, фактически лишившимся отца и воспитанным тремя родственницами, которые души не чаяли в Шуриньке.
Его родители вступили в брак, будучи людьми молодыми и очень разными по воспитанию и устремлениям.
Николай Александрович Скрябин происходил из семьи потомственных военных; впоследствии он стал дипломатом и подолгу жил за границей. Мать, Любовь Петровна, талантливая пианистка, принадлежала к семейству художников Щетининых, трудившихся на Императорском фарфоровом заводе.

Н. А Скрябин и Л. П. Скрябина, урожденная Щетинина
Вскоре после рождения первенца 22-летняя женщина скончалась от чахотки. Свой музыкальный дар она передала сыну, к сожалению, вместе с предрасположенностью к проблемам по линии здоровья, душевного в том числе: ее отец Пётр Нилович Щетинин страдал тяжелым расстройством психики.
В 43 года, несмотря на неоднократные награды за прекрасно выполненную работу, он был уволен от службы, ибо, согласно заключению, составленному доктором Фарфорового завода, «…с давнего времени поступками своими, несоответствующими человеку со здравым рассудком обращал на себя внимание» и «впал ныне в совершенное изнеможение».
Мальчика растили женщины: мать отца, его тетя и незамужняя сестра. Тетушка Любовь Николаевна распознала в ребенке редкостный музыкальный дар и преподала ему первые уроки игры на рояле.

Л. Н. Скрябина
Саша рос в тепличных условиях. Правда, его дед, подполковник-артиллерист хотел видеть внука продолжателем их семейной традиции и настоял на том, чтобы его отдали учиться в Московский Кадетский корпус. Но едва ли не единственным качеством, которое, с известной натяжкой, можно считать унаследованным Сашей Скрябиным от бравых родичей с отцовской стороны было его пристрастие к мазуркам.
В Россию мода на мазурку пришла благодаря военным. На балах воины-аристократы, красуясь перед дамами, могли продемонстрировать свою выправку, ловкость и рыцарскую стать. И хотя к концу XIX века мазурка давно перестала быть популярным бальным танцем, в Кадетском корпусе мальчиков обучали ее фигурам. Уйдя с балов, мазурка обрела новую жизнь в русской культуре, трансформировавшись в самостоятельную музыкальную миниатюру.
Но в этой бесконечно длинной веренице однотипных фортепианных пьес мазурки Скрябина представляют собой нечто совершенно уникальное. Молодой композитор хорошо усвоил принцип боготворимого им Шопена – сохраняя «видовые» признаки бытового жанра, наделять его собственным эмоциональным и образным содержанием. Скрябин продолжил эту игру в преображения, и в результате родилась серия чувственных, тончайших по нюансам настроения монологов, танцевальная основа которых сообщает им элегантный аристократический шарм.
В кадетском корпусе Саша был на особом положении: жил не в интернате с другими мальчиками, а у своего дяди Владимира Александровича, служившего в том же учебном заведении воспитателем, да и от строевой службы он был освобожден. Тогда же он начал брать уроки игры на фортепиано и теории музыки у лучших учителей: Н. С. Зверева, Г. Э. Конюса и С. И. Танеева.

Н. С. Зверев с учениками. Второй слева – А. Скрябин
Зимой 1888 года Скрябин поступил в Московскую консерваторию. Как и вечный его соперник Рахманинов, он учился по двум специальностям: фортепиано и композиция. Но хотя он много сочинял, отношения с преподавателем, А. С. Аренским, у него не заладились. Саша, с детства привыкший делать только то, что ему хочется, недоумевал: поступал-то он в класс свободного сочинения, а оказалось, что там нужно выполнять какие-то обязательные задания… Так что консерваторию в 1892 году он оканчивал только как пианист – с блеском, отраженным в сиянии Малой золотой медали.

А. Н. Скрябин в 1892 году
Начало самостоятельной концертной жизни Скрябина омрачается проблемами с переигранной рукой (результат попыток разучить виртуозные сочинения Балакирева и Листа). Позднее в своем дневнике он охарактеризует это событие как самое важное в его жизни, едва не ставшее препятствием «на пути к столь желанной цели: блеска, славы». На помощь приходят друзья, и прежде всего, бывший педагог и директор консерватории В. И. Сафонов – он знакомит любимого ученика с миллионером Митрофаном Петровичем Беляевым, и тот становится первым и лучшим в череде меценатов, поддерживавших композитора на протяжении всей его творческой карьеры.
Скрябин был последней находкой Беляева, его лебединой песней. Несмотря на протесты худсовета Беляевского издательства (Римский-Корсаков и Глазунов возражали против московского «варяга», благосклонно к нему отнесся только Лядов), Беляев начинает публиковать произведения молодого автора. Узнав, что он, несмотря на все принятые меры, все еще чувствует боли в правой руке, Митрофан Петрович отправляет своего протеже в Германию к знаменитому профессору-неврологу, оплачивает курс гидротерапии в Швейцарии и морские купания в Италии.

М. П. Беляев
Через год Беляев организует серию концертов Скрябина в Европе: во Франции, Бельгии, Германии, Голландии. По возвращении в Москву молодой музыкант получает от своего покровителя в подарок великолепный беккеровский рояль. Беляев назначает ему ежемесячное содержание в размере сначала 100, а потом 200 рублей – в счет будущих произведений, которые должны публиковаться издательством, а кроме того, через В. В. Стасова анонимно передает своему юному протеже премию в размере 1000 рублей.
В силу своей натуры Скрябин воспринимает все эти подарки судьбы как должное, принадлежащее ему по праву, им завоеванное. Еще недавно чрезвычайно религиозный, он теперь видит в себе сильную личность, одолевшую «предавшего» его Бога. Точнее, уже бога. В дневниковых записях композитора, относящихся к этому периоду, мы читаем:
«Кто бы ни был ты, который наглумился надо мной, который ввергнул меня в темницу, восхитил, чтобы разочаровать, дал, чтобы взять, обласкал, чтобы замучить – я прощаю тебя. Я все-таки жив, все-таки люблю жизнь, люблю людей, люблю еще больше за то, что и они через тебя страдают (поплатились). Я иду возвестить им мою победу над тобой и над собой, иду сказать, чтобы они на тебя не надеялись и ничего не ожидали от жизни кроме того, что сами могут себе создать. Благодарю тебя за все ужасы твоих испытаний, ты дал мне познать мою бесконечную силу, мое безграничное могущество, мою непобедимость, ты подарил мне торжество».
Конец 1890-х – начало 1900-х годов – время, когда Скрябин пробует покорить крупную музыкальную форму. Первая проба – Концерт для фортепиано с оркестром, написанный, как и полагается, при вступлении в большую композиторскую жизнь, не стал у Скрябина таким свершением и удачей, как у Чайковского, Аренского и Рахманинова. Вместо диалога-состязания между солистом и оркестром мы слышим длинные романтические монологи рояля, поддерживаемые одобрительными фразами оркестра. Вот ведь беда – этот необычайно изобретательный мастер фортепианных фактур способен слушать только самого себя. Реально значимый собеседник в виде оркестра ему не нужен…
Другое дело – когда оркестр является единственным выразителем авторской воли. Таинственно распускающаяся дивным цветком Первая симфония манит слушателя предчувствием чуда.
Скрябин, Симфония №1. Симфонический оркестр Франкфуртского радио, дир. Дм. Китаенко.
И хотя серия однообразных кульминаций в конце концов утомляет слух, красота тематизма искупает этот недостаток. Увы, катастрофический финал с хором, солистами, нелепой риторикой очень слабых скрябинских стихов и вполне адекватным им «силлабо-тоническим» вокалом наносит сокрушительный удар по предыдущему впечатлению. Как будто мы внезапно угодили в какую-то заказную кантату…
Появление в симфоническом произведении вокальной составляющей, смысл которой не в передаче какого-то дополнительного образного содержания, а исключительно в донесении до слушателя текста, причем авторского, не случайность. Скрябина влечет к философии. Он много читает – Платона, Фихте, Шопенгауэра, Ницше и других. Ему нравится рассуждать на отвлеченные темы, он ощущает потребность в абстрактных построениях и стремится во всем обнаружить некий единый Принцип, сформулировать, как иронически выражаются математики – «общую теорию всего». Свои размышления он фиксирует в особых «философских» тетрадях и чем дальше, тем больше в музыке начинает видеть не самодостаточное искусство, а лишь средство для достижения некой глобальной цели, пока еще довольно смутно им прозреваемой. Все это в дальнейшем даст повод искусствоведам называть его выдающимся мыслителем и утверждать, что музыка Скрябина, симфоническая в особенности, неотделима от его философских воззрений.
На самом деле – очень даже отделима! Свидетельством тому статьи и доклады, авторы которых увлеченно описывают скрябинские фантастические концепции, цитируют его литературные тексты, рассуждают о «мистериальности» и «космичности» его произведений, превосходно обходясь без звучания собственно музыки. И не важно, что профессионалы в области философии считают концептуальные тексты Скрябина слабыми и несамостоятельными, наивными в своем эклектизме и вторичности – сумбурной смесью воззрений различных философов, психологов и мистиков. Кто же станет прислушиваться к мнению специалистов по философии и психологии (о мистике умолчим), когда речь идет о мышлении гениального композитора? Руки прочь.
А вот с точки зрения медиков, тяга Скрябина к философским построениям, сопровождавшаяся формированием сверхценной идеи (не путать с идеей большой ценности) – это одно из проявлений развивавшейся душевной болезни. По мнению психиатров, занимавшихся фигурой Александра Николаевича, его склонность к резонерству с религиозно-мистическим уклоном, резкие колебания настроения, повышенная сексуальность, жестокость по отношению к близким людям, эгоизм и эгоцентризм, мнительность, панический страх перед насекомыми и вообще любой «грязью», неадекватная оценка своих возможностей – все это, вкупе с тяжелой наследственностью, свидетельствует о наличии психического заболевания, скорее всего, шизофрении в начальной стадии.
Но кто же станет прислушиваться к мнению специалистов в области психиатрии, когда речь идет о внутреннем мире гениального композитора? Ведь помимо всего прочего, если признать, что рассуждения Скрябина, зафиксированные в воспоминаниях современников и в его собственноручных текстах, обладают всеми признаками мегаломанного бреда, получится, что тонны исписанной бумаги, все эти статьи и диссертации, в которых музыкальное творчество композитора рассматривается в тесной связи с его теоретическими концепциями, ничего не стоят! Ну и ну.
В своем мировоззрении он тяготеет к солипсизму. Собственно, идея, что все происходящее вокруг есть отражение собственных ментальных состояний индивида, далеко не нова. Но Скрябин принимает ее очень близко к сердцу: он приходит к выводу, что мир не только создан силой его творческого воображения, но может и должен быть преобразован этой силой.
«Вас нет, есть только игра моей фантазии свободной и единой, которая вас создает и наблюдает».
На собраниях философского кружка «Московского психологического общества», членом которого Скрябин становится в начале 1900-х годов, он знакомится с одним из тех, «кого нет» – искусствоведом Борисом Федоровичем Шлецером, а затем и с его сестрой Татьяной. И вот она-то есть точно.
Скрябин уже шесть лет как состоит в браке: решив, что ему пора обзавестись женой, он останавливает свой выбор на высокой статной красавице Вере Исакович, ученице профессора Московской консерватории П. Ю. Шлецера (родного дяди искусствоведа). Вера тоже окончила консерваторию с золотой медалью и подавала большие надежды как пианистка, что Скрябин не преминул сразу же отметить. И действительно, впоследствии она сделалась талантливой исполнительницей сочинений своего мужа и неутомимой пропагандисткой его музыки.

В. И. и А. Н. Скрябины
Позднее Скрябин жаловался друзьям, что его женили чуть ли не насильно. Но его постоянное желание быть рядом с невестой, экстатические импровизации после свиданий (об этом в своих воспоминаниях упоминает В. И. Сафонов) и четверо детей, появившиеся в течение нескольких лет совместной жизни четы, заставляют в этом усомниться. Другой вопрос, что Скрябин с самого начала не был образцом верности и даже не считал нужным скрывать от жены свои увлечения.
Преданность, которую Вера Ивановна питала к своему мужу, была безгранична. Но вот понять доктрину, согласно которой она и дети – всего лишь плод воображения ее гениального супруга, она не смогла. В отличие от нее девятнадцатилетняя Татьяна, приехавшая в Москву к брату специально, чтобы встретиться с композитором, чья музыка приводила ее в восторг, принимает своего кумира целиком. Центр ли он Вселенной? Несомненно, и в самом буквальном смысле. Уникальная личность, явившаяся в мир с великой оплодотворительной миссией? Кто бы сомневался. И она становится на колени перед играющим на рояле Скрябиным, шепча в экстазе: «Бог! Бог! Бог!!!»

Т. Ф. Шлецер
Чтобы устоять против такого натиска, нужно обладать совсем иным характером, нежели скрябинский. Вера Ивановна проигрывает Татьяне с разгромным счетом и вскоре остается одна, с четырьмя маленькими детьми на руках. А Скрябин обретает новые, вероятно, очень желанные для него острые ощущения…
Старшие друзья принимают эту перемену в его жизни, мягко говоря, неоднозначно. И Скрябин решает уехать за границу – подальше от сплетен. Неожиданная смерть его покровителя Беляева едва не расстраивает эти планы, но прореху в «каменной стене», оберегавшей композитора от превратностей жизни, помогает залатать бывшая ученица Скрябина и подруга его жены Маргарита Кирилловна Морозова. Та самая Морозова, которая, следуя семейной традиции, вложила изрядную долю оставленного ей мужем трехмиллионного состояния в развитие и поддержку русской культуры (в память об этом после революции ей было милостиво дозволено некоторое время жить в подвале собственного дома).
В течение четырех лет Морозова ежемесячно выплачивает Скрябину безвозмездное пособие в размере 200 рублей, что позволяет ему перебраться с семьей в Швейцарию, где роман с Шлецер продолжает набирать обороты, а затем в Италию, уже без жены и детей, но с Татьяной Федоровной.
В одной из своих «философских тетрадей» этого периода Скрябин пишет:
«Я начинаю свою повесть, повесть мира, повесть вселенной. Я есмь и ничего вне меня». И далее: «Я хочу быть на вершине. Я хочу пленять своим творчеством, своей дивной красотой. Я хочу быть самым ярким светом, самым большим (одним) солнцем, я хочу озарять вселенную своим светом, я хочу поглотить все, включить (все) в свою индивидуальность. Я хочу подарить миру наслаждение, я хочу взять мир как женщину. Мне нужен мир. Я весь – переживаемые мною чувства, и этими чувствами я создаю мир».
Лондонский симфонический оркестр, дир. Валерий Гергиев.
С этого мощного музыкального утверждения начинается самое масштабное скрябинское сочинение – 3-я симфония, она же «Божественная поэма». Но что же дальше? Пафос большинства романтических симфоний состоит в том, чтобы, начав с трудного, мучительного, рокового вопроса, пройти нелегкий путь через стремление и борьбу, отдохновение и созерцание – к утверждению обретенного, наконец, кредо Финала. У Скрябина же констатация итога в начале симфонического цикла создает странную ситуацию, при которой музыкальная диалектика замещается перечислением атрибутов величественного авторского «я».
Согласно развернутой литературной программе, написанной к парижской премьере (ставшей возможной благодаря финансовой помощи все той же Морозовой), образом первой части симфонии является «Борьба», во второй абсолютизируется «Наслаждение», а в третьей «освобожденный, наконец, от всех уз, связывающих его с прошлым… дух, производящий вселенную одной лишь властью своей творческой воли и сознающий себя единым с этой вселенной, отдается возвышенной радости свободной деятельности – “божественной игре”».
Все бы хорошо, но после ярчайшей, шикарно поданной темы вступления «борьба» выглядит как-то не очень убедительно. Да и с кем или чем этому супергерою, духу-атлету бороться? Там ведь нет никого, кроме него. Прекрасная музыка становится пленницей бесконечно возобновляющегося, замкнутого в самом себе потока самолюбования. Сравните эти круговые движения Скрябина с целенаправленной устремленностью Чайковского… при очень похожей музыке:
Скрябин, Симфония №3, Лондонский симфонический оркестр, дир. В. Гергиев; Чайковский, Симфония №4, Российский национальный оркестр, дир. М. Плетнев.
На мой взгляд, два основных образа этого сияющего мажорного периода музыки Скрябина – созерцание и полет с гораздо большей убедительностью реализуются в естественной среде обитания скрябинского дарования – камерной фортепианной музыке:
Соната №4, Марк-Андре Амлен.
Петербургская премьера 3-й симфонии состоялась в 1906 году в рамках очередного цикла Русских симфонических концертов Беляевского фонда. Московская публика познакомилась с ней лишь три года спустя, когда в Большом зале консерватории по инициативе Морозовой, входившей в дирекцию РМО, состоялся концерт из произведений Скрябина. Организовать это было непросто. Чтобы сломить упорное сопротивление остальных директоров, Морозовой пришлось оплатить из собственных средств не только исполнение «Божественной поэмы» и «Поэмы экстаза», но и все концерты Русского симфонического общества в течение… целого года!

М. К. Морозова
К этому времени отношения композитора с меценаткой уже дали серьезную трещину. Татьяна Шлецер оказалась ревнивой и деспотичной жрицей своего бога.
«Не правда ли, Александр Николаевич выше Вагнера?»
– говорила она с вопросительно-утвердительной интонацией – и зорко следила за тем, чтобы в окружении Скрябина не осталось тех, кто в этом сомневался. А заодно – и всех мало-мальски привлекательных женщин, а также тех из прежних знакомых, кто не прервал дружеских контактов с оставленной им супругой.
Скрябин, даром что он примерял на себя корону сверхчеловека, в «земной» своей ипостаси полностью подчинялся волевой натуре Татьяны Федоровны.
Накануне концерта во время репетиции он заметил, что Маргарита Кирилловна беседует с сидевшей в зале Верой – и этого оказалось довольно, чтобы публично наброситься с упреками на свою благодетельницу. Потрясенная этой истерикой, Морозова навсегда отстранилась от Скрябина, хоть и продолжала высоко ценить его музыку.
Концерт 21 февраля 1909 года в Москве прошел с триумфом, особенно восторженной была реакция молодых слушателей. Можно представить, как неотразимо должен был воздействовать на них экстатически-мажорный тонус звучаний Третьей симфонии, тем более на общем фоне мрачновато-депрессивной русской музыки того периода. Еще сильнее поразила публику «Поэма экстаза». К тому времени импрессионистские звучания уже давно не были новостью. Но никто до сих пор не додумался применить этот «запрещенный» прием и соединить переливчато-чувственную, сотканную из изысканных доминантово-целотонных созвучий музыку с откровенно брутальной ее подачей.
Натурально, каждому слушателю была вручена отпечатанная литературная программа, содержавшая стихи, которые сам Скрябин считал образцом философской поэзии. Но если выбросить из головы чудовищно вычурный текст – он, кстати, произвел на всех чрезвычайно отталкивающее впечатление, трудновато услышать в этой, по сути, изобразительной музыке то, что мерещилось ее автору:
«Дух на вершине бытья.
И чувствует он
Силы божественной,
Воли свободной
Прилив бесконечный.
Он весь дерзновение.
Что угрожало —
Теперь возбужденье,
Что ужасало —
Теперь наслажденье,
И стали укусы пантер и гиен
Лишь новою лаской,
Новым терзаньем,
А жало змеи
Лишь лобзаньем сжигающим».
Подозреваю, что находясь один на один со скрябинской музыкой, мы и Седьмую сонату вряд ли бы проассоциировали с «белой мессой», а Девятую – с «черной». Да и звуковой «огонь» фортепианной поэмы «К пламени» вполне может соединиться в воображении с водой, с облаками, с шумом леса… и просто с Дебюсси.
Музыка – искусство, наиболее тесно связанное с эмоциональным миром человека и одновременно самое абстрактное. Быть носителем конкретной информации она способна лишь в той мере, в какой композитор может пользоваться всем понятными знаками: примером тому служат баховские мотивы-символы, которые в его времена четко ассоциировались с известными хоралами и, соответственно, с религиозными текстами. Сегодня среди нас не так уж много людей, способных сходу опознать эти мотивы, и все же музыка Баха продолжает глубоко на нас воздействовать, потому что она располагает для этого иными средствами, намного более универсальными.
Музыкальный язык, которым пользовался Скрябин (наряду с множеством других композиторов того времени) очень мало подходил для воплощения монументальных образов и, тем более, отвлеченных идей. На его основе сложно структурировать протяженные формы, Да, Скрябин демонстрировал чудеса самого изощренного использования этого языка, но его словарь был слишком ограничен и вообще «не из той оперы». И музыкант в нем, несомненно, чувствовал это. Но поселившийся в его голове философствующий мистик шептал: «Проблема в том, что твои мысли и чувства слишком глобальны для выражения их музыкальными средствами!»
Отсюда и потребность в «физиологии» супер-громких звучаний, призванных в конечном итоге нивелировать ощущение, что музыка распадется на ряд миниатюр, и желание снабжать свои произведения длинными описательными текстами. Отсюда и симпатия к идее «синтеза» всех искусств.
Партитуру следующего своего сочинения – «Прометея», Скрябин решает снабдить световой строкой.
Вообще говоря, цветной слух у музыкантов не редкость. Он связан с индивидуальным, субъективным ощущением различной окраски тональностей кварто-квинтового круга: одному человеку данная тональность может казаться «желтой», другому «зеленой», третьему «фиолетовой». Но Скрябин утверждал, что не только каждой тональности соответствует свой цвет, но и отдельным созвучиям, а все цвета несут в себе конкретную смысловую нагрузку. Например, синий – это символ разума и духовности, а красный – его «материальной» противоположности. И не важно, что по свидетельству очевидцев автор «Поэмы огня» не мог по памяти повторить цвета аккордов, обозначенные им в партитуре – он настаивал на том, что его видение единственно верное, чуть ли не математически обоснованное.
«Прометей» был для Скрябина лишь шагом на пути к осуществлению главной его мечты, к этому времени полностью им овладевшей – того, что он называл Мистерией и что было его интерпретацией учения Е. П. Блаватской о циклической смене «рас», завершении последнего этапа мировой истории и переходе Вселенной в новое, высшее состояние.
Трудно сказать, когда именно он заболел идеей Мистерии – по всей видимости, одновременно или вскоре после написания «Божественной поэмы», но во второй половине 1900-х годов Скрябин, светясь энтузиазмом, уже готов был рассказывать о ней каждому, кто соглашался слушать. Например, Кусевицкому. По мысли композитора, этот талантливый дирижер-самоучка, владелец нотного издательства и зять миллионера-мецената должен был заменить Морозову и освободить его от материальных забот, дабы он, Скрябин, мог без помех сосредоточиться на выполнении своей миссии Избранного.

Мистерия мыслилась им как вселенский эротический акт, где божественно-творческое мужское начало должно было соединиться в экстазе с «множественным» женским, плотским, материальным, воплощенным в природе и людях всей планеты. Акт совокупления Духа и человечества планировалось растянуть на семь дней (симметричный ответ акту Творения), и на кульминации процесса, который сам Скрябин называл «истечением», должна была произойти аннигиляция – уничтожение существующей цивилизации и упокоение Бытия в состоянии нирваны.
Авторы большинства статей, посвященных Скрябину, тактично обходят проблему Мистерии либо пускаются в туманные рассуждения о ее высокой духовной сущности. Мне даже доводилось читать, что грезы Скрябина о всемирной оргии, всеобщем «ласкании», которое должно довести человечество до коллективного оргазма – обязательного условия акта счастливого преображения материи в ничто, следует понимать в переносном и сугубо гуманистическом смысле. В том же, в каком сын эпохи Просвещения Бетховен призывал обняться миллионы. Это полностью противоречит не только содержанию скрябинских литературных текстов, но и сокровенным мыслям, которые он доверял страницам своих дневников и ушам близких ему людей. А самое главное – напряженному эротизму его музыки.
Но дело даже не в истолковании самой идеи. В конце концов, мистицизм, в том числе эротической и эсхатологической направленности, пользовался большой популярностью в среде русских символистов – философствующих поэтов и графоманствующих философов, на этом в значительной мере базируется искусство Модерна. Но одно дело, когда мистика служит источником поэтического вдохновения, и совершенно другое – когда человек принимает мистическую идею как руководство к действию, а себя воображает избранником, которому доверено силой искусства создать условия для ее реализации. Вот это уже проблема не эстетики и не философии, а психиатрии.
По замыслу Скрябина, для осуществления этой задачи требовалось выстроить специальный храм в самом высокодуховном месте планеты – Индии и задействовать гигантский оркестр и хор из 7000 голосов, а также лазерное шоу, световые и обонятельные эффекты, пластику движений и еще бог знает что. Текст и музыку он намеревался написать сам, все прочее должны были исполнить помощники, «подготовленные» люди из ближайшего окружения композитора – таковых насчитывалось человек пять-шесть.
Дабы ничто не мешало ему, Скрябин решает отказаться от сочинения любой другой музыки, за исключением, может быть, небольших фортепианных пьес для издательства Юргенсона. В Кусевицком, который до поры до времени был открыт к сотрудничеству, он быстро разочаровался. За исполнение музыки тот платил немного, предпочитая вкладывать значительные средства в рекламу концертов и пышное их оформление. Но что хуже всего – Кусевицкий дирижировал сочинениями не только Скрябина, но и других композиторов. Скрябин же считал это совершенно излишним.

Скрябин и Кусевицкий
6000 рублей в год, оговоренных с Юргенсоном, для комфортабельного существования Скрябину уже не хватает, и он вынужден зарабатывать деньги, выступая с концертами в провинции. А там публика почему-то хочет слушать одни и те же вещи – его ранние фортепианные пьесы, самому Скрябина казавшиеся уже чем-то страшно далеким и неинтересным.
«Как это ненормально и возмутительно, что художники не обеспечены! Государство должно их обеспечить – это первая задача! Возмутительно, что я должен заниматься вот этими заработками!»
– жалуется он друзьям.
Спонсоров своего главного «проекта» Скрябин надеется обрести в Англии – стране, где во время его гастролей 1914 года композитору был оказан прекрасный прием. Тем более, что Индия пока еще английская колония. Так почему бы англичанам не пожелать помочь ему с организацией конца света? Логично.
Начавшуюся войну Скрябин воспринимает как радостный сигнал к тому, что эра Мистерии близится. Он, впадающий в панику из-за укуса мошки, произносит в кругу друзей панегирики очистительной битве, крови и боли, необходимой для того, чтобы подготовить тела и души к грядущим восторгам глобального соития. Но «очистительная битва» затягивается, и Скрябин нервничает. Ему нужно срочно снова ехать в Англию, а тут такое неудобство – мировая война! Скоро ли это все закончится?! Скоро. До рокового эпизода с рецидивом фурункула на губе и последних слов, произнесенных композитором
– «Так значит, конец… Но это катастрофа!»
– остается несколько месяцев…
Но пока что Скрябин намеревается жить еще очень долго – столько, сколько необходимо для выполнения его «сверхценной» задачи. Однако контуры «Мистерии» вырисовываются как-то уж очень медленно и то и дело уплывают в туман. И даже принятое им компромиссное решение о создании вначале некоего гигантского, но все же обозримого по своим масштабам «Предварительного действия», не очень-то помогает. Скрябин записывает стихотворные тексты для этого произведения… а музыка не рождается – только отдельные наброски, основанные на материале последних прелюдий, да маленькие фрагменты, распадающиеся на созвучия.
И это понятно – ведь по сути своего дарования Скрябин миниатюрист, его подлинная стихия – камерная фортепианная музыка, в условиях которой с такой легкостью дышит его мелодический дар и где короткие изысканные мотивные построения обретают свободу. В этих неповторимых интонациях и живет оригинальность музыкального почерка Скрябина, а вовсе не в гармонии, как почему-то принято считать.
Гармония раннего Скрябина – обычная романтическая, обогащенная двумя любимыми гармоническими оборотами Чайковского, бесконечно растиражированными русской композиторской средой того времени:
А что касается гармонических новаций в его позднем творчестве, то…
Кстати, это не Скрябин, это музыка Лядова и Черепнина.
В рамках общей тенденции «эмансипации диссонанса» к этому стилю придрейфовали совершенно разные композиторы в разных странах. В России это были Римский-Корсаков, Лядов, Скрябин, Черепнин, Ребиков, Стравинский, Мясковский и, я уверен, сотни других, не сохраненных историей музыки. Суть новых гармоний, вызвавших к жизни нескончаемый поток серьезных теоретических исследований, чрезвычайно проста и незатейлива. Отплыв от базового для музыки предыдущих трех столетий диалектического единства TSDT, композиторы естественным образом вернулись обратно к натуральному звукоряду. В колебания этого звукоряда прекрасно встраиваются оба ладовых откровения 19 века – целотонный аккорд и гамма тон-полутон. Убедитесь сами.
Натуральный звукоряд, целотонный аккорд, гамма тон-полутон. По отдельности:
А теперь все вместе:
Вот вам и весь «переход музыки в новое состояние». Что ж, старость – это ведь тоже новое состояние по отношению к молодости и зрелости… «Новее» только смерть…
Что было бы дальше, не приди она к композитору, предположить не так уж трудно.
Потускнев и постепенно съежившись, гений Скрябина, скорее всего, просто растворился бы в бесконечном потоке слов.
«Мы, увлеченные жизни теченьем,
Мы, отягченные этим теченьем
В ткани желанья вновь облекаемся,
В бездны исканья мы опускаемся.
В ткани все глубже к долу все ближе.
Волны, спускайтесь ниже и ниже.
Все сокровенней нежные плены,
Все сладоственнее сладные тлены».
А ведь была изумительная музыка…