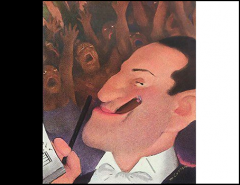«О, если б знали вы...»
Опубликовано в https://www.classicalmusicnews.ru/
О чём говорит с нами автор «Патетической» симфонии?

Разговор о музыкальном произведении, находящемся в VIP-ряду культурных ценностей, всегда труден. Ведь в нашем сознании уже сложился некий образ такого сочинения, и мы готовы слышать в нём то, что было много раз проанализировано и описано и с чем мы внутренне давно согласились.
Мы можем переживать и даже обливаться слезами, но при этом будем чувствовать себя вполне комфортно, потому что знаем сценарий, забывая о том, что сценарий этот возник позже и разработан не автором. Услышать саму музыку, а не заданную извне всем удобную «концепцию», бывает особенно трудно при общении с крупными сочинениями романтического периода. Тут мы изначально настроены на восприятие темы, претендующей на некую философскую глубину и отвлечённость: место человека в мире, личность и Бог, художник и обыватели, жизнь и смерть… В общем, весь богатый ассортимент «роковых вопросов».
Сказанное в полной мере относится к Шестой симфонии Чайковского, тем более что композитор, как это часто случается с гениями, сам «помогает» нам соскользнуть на удобную, исхоженную тропинку, ведущую к тупику абстрактных толкований его сочинения. Тут и намёки на тайную программу, которые он делал, общаясь с близкими людьми, и строки из письма К. К. Романову – отклоняя предложение великого князя написать музыку на «Реквием» Апухтина, Чайковский оправдывается «сходством» своей новой симфонии с настроением этого стихотворения …
Незадолго до этого он работает над программной симфонией «Жизнь». Но внезапно охладевает к этому замыслу, и у него появляется новое сочинение, с совершенно иной концепцией. Симфония «Смерть»?
Действительно, внезапный, трагически нелепый уход Чайковского накрепко связал в сознании людей эту музыку с идеей смерти. На самом же деле Пётр Ильич, хотя и повторял регулярно в письмах фразы-обереги типа «Надеюсь не умереть, не исполнивши этого намерения», о близкой смерти и не помышлял. И собирался вскоре после премьеры Шестой симфонии отправиться в очередное большое гастрольное турне.
Что могло побудить композитора к созданию произведения с таким мощным трагедийным посылом?
Начало 1890-х. Чайковский в зените своей славы. Успешные выступления в Англии, в городах Европы, затем в США.

Лучшие залы, поклонники, восторженные рецензии в центральных газетах. Высшее счастье для композитора!
Но поездка в США подарила Чайковскому не только сладость триумфа: она стала катализатором горьких переживаний личного характера. В дневниковой заметке этого времени мы читаем: «Меня злит, что они пишут не только о музыке, но и о персоне моей».
«Они» – это репортёры. Описывая внешность Чайковского, корреспондент New York Herald отмечает, что ему, по-видимому, хорошо за шестьдесят.
Впечатлительный Пётр Ильич, которому на следующий день исполнится пятьдесят один год, цитирует этот отзыв, снабжая его знаками вопроса-крика: «well on the sixty (?!!)».
Два дня спустя новая заметка в дневнике:
«Моя рассеянность делается несносна и, кажется, свидетельствует о моей старости».
Дальше – хуже: «Карнеги особенно удивлялся; им всем казалось (…), что мне гораздо больше. Не постарел ли я за последнее время? Весьма возможно. Я чувствую, что что-то во мне расклеилось».
И, наконец:
«Под впечатлением разговоров о моей старообразности, всю ночь видел страшные сны (…). По гигантскому каменному скату я неудержимо катился в море и уцеплялся за маленький уголок какой-то скалы. Кажется, все это отголосок вечерних разговоров о моей старости».

Всё. Симфония «Жизнь» отвергнута! У композитора начинает вызревать замысел другого произведения, в котором не должно быть никакой драматической риторики, а будет только одно: авторское «Я». Пронзительно-болезненный пафос постижения собственной личности и фаз её жизненного цикла.
Абстрактная идея смерти вряд ли может вызвать у психически здорового и успешного человека такую конкретную в своей жути истерику. А вот внезапное осознание того, что лучшая, цветущая пора жизни осталась позади – да, пожалуй. У человека нестандартной физической и психической организации особенно.
Смерть – мгновение. Старение – длительный процесс, сопровождающийся неумолимо нарастающим упадком физических возможностей. И нашему герою в кокетливых пиджачках с кантиками мысль о таком будущем должна была давать много поводов для слёз.
И вот уже ставший традиционным для романтических симфоний вступительный мотив внешнего императива уступает место заторможенно-угрюмым, хрипловатым из-за низкого регистра фразам фагота.
Здесь и далее – Оркестр Берлинской филармонии, дирижёр Герберт фон Караян
«Зачем? К чему? Какой во всём этом смысл?..» Типичная утренняя хандра мужчины за пятьдесят, с отвращением смотрящего на себя в зеркало после тяжёлой, не подарившей здорового сна ночи. И эта хандра будет посильнее всяких там абстрактных роков-фатумов…
Но жизнь (а вместе с ней и главная партия 1-й части) вступает в свои права. Всё начинает куда-то бежать и во что-то превращаться, вовлекая героя симфонии в это движение. «Жизни мышья беготня» – интонационно почти обезличенная тема, мало похожая на большинство чувственно заостренных главных партий в произведениях Чайковского.
Покружившись на гранях радости и печали, движение успокаивается и иссякает. Оно самодостаточно и ни к чему не привело.
Столь же самодостаточна появляющаяся после паузы сказочно-прекрасная, мечтательная тема побочной партии, оформленной почти как отдельная, самостоятельная трёхчастная пьеса с балетно-танцевальной серединой.
После долгого, почти блаженного, зависания в тишине, разработка обрушивается пугающим, на грани физиологического воздействия, ударом.
Реальная жизнь снова напоминает о себе, заставляя героя мучиться. Вокруг него снова чья-то возня, теперь уже не «мышья», а скорее крысиная (ассоциации, возникающие здесь со «Щелкунчиком» далеко не случайны!). И она способна довести до настоящей истерики с мыслями о смерти. Вот уже и звуки погребальной церемонии мерещатся…
Конвульсивные всхлипывания постепенно растворяются в тишине. И снова из пустоты медленно появляется все такая же непорочно-прекрасная побочная. Теперь она кажется ещё менее реальной –далекой и недоступной…
Непроницаемо спокойное, как ход времени, «тиканье» пиццикато завершает часть. А может быть, день?
Главная и побочная, действительность и мечта, реальность и воображение два раза оказывались рядом в этой части, но так и не нашли никаких способов взаимодействия.
В контексте всей симфонии 1-я часть выглядит самостоятельной симфонической поэмой, в заглавии которой рядом с посвящением юному Бобу, племяннику композитора и боготворимому им юноше, вполне могло стоять программное название: «Я!».
По размерам эта часть в два раза превосходит каждую из последующих, вызывая ощущение наличия в симфонии некой «макроформы», по смыслу двухчастной и превалирующей над видимой. В рамках такой концептуальной схемы становится логичной и оправданной сюитность построения второй половины всего произведения. Если первая часть – дневниковая, где автор как бы говорит: «Это мой внутренний мир, чувства и мысли, которыми я живу сегодня», то всё дальнейшее – взгляд вовне, на вчера, сегодня и завтра.
Вот перед нами воспоминания юности, приятно ласкающие слух вальсовой музыкой 2-й части. Ошибаются те, кто пытается трактовать её необычный размер, 5/4, как нечто нарочито-призрачное, трагически-потустороннее. Пятидольный вальс – это просто бальный танец, который был в большой моде в Европе, особенно в Англии – стране, которую наш герой впервые посетил двадцатилетним. Да, серединное трио навевает грусть…
Но кто не вздохнет, вспоминая молодость? И просвечивающие здесь черты побочной партии из 1-й части вполне объяснимы: нежные воспоминание о прошлом – область идеального.
Пять шагов до разгадки. О пятидольном вальсе из Шестой симфонии Чайковского
Музыка 3-й части, Скерцо – напротив, область реального, наполненного радостным предвкушением большого успеха. Мало кому из композиторов довелось при жизни вкусить столько славы, почестей и поклонения, как Чайковскому! И в мелодии марша из 3-й части оригинально и неожиданно составленной из квартовых ходов с характерной синкопой, явно слышны отзвуки его американских побед.
Попытки найти в этой музыке некое «второе дно», чуть ли не нашествие злобных сил, объясняются, конечно же, ретроспективно спроецированными на Чайковского клише, свойственных восприятию человека XX века. Но именно прямота и непосредственность положительного заряда, которым лучится 3-я часть, обеспечивает потрясающий по силе контраст переключения на эмоциональный срыв, каким становится Финал симфонии.
Музыка Шестой симфонии, представляющая собой предельно откровенный, очень личный дневник, способна в определенный момент стать выразителем сокровенных переживаний любого из нас. Но это воистину трагическое «чтение» несёт в себе не только боль, но и освобождение от пустоты, которая периодически захлестывает каждого человека, достигшего определённого возраста.
Хорошо, что у нас есть Чайковский. А у него? У него был Моцарт…