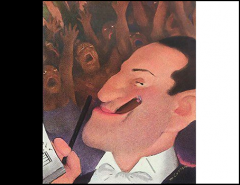Рахманинов. Гугнин. София.
Опубликовано в tikhomirov-music.com

Вечер 31 марта я собирался провести в Софийской филармонии на концерте, который обещал стать крупным событием: в программе Рахманинов («Утёс», «Рапсодия на тему Паганини», «Симфонические танцы»), за пультом оркестра Болгарского Национального радио маэстро Марк Кадин, солист – Андрей Гугнин). Вы можете себе представить, с каким трепетом и, не побоюсь этого слова, вожделением, я предвкушал грядущее удовольствие.
Увы, греко-славянские боги, которые, как утверждают, до сих пор обитают в этих краях, жестоко надо мной посмеялись. Я заболел. Не скажу, что неожиданно: последствия работы грузчиком-землекопом в 1990-х, когда за то единственное, что я умел делать – сочинение музыки и концертмейстерскую работу деньги платить перестали, дают о себе знать регулярно, осенью и весной. Но как же некстати это случилось сейчас!
Жене Ольге пришлось отправиться на концерт в одиночестве. Вернулась – вся светится, глаза горят, и говорить начала прямо с порога, не успев переодеться.
–Оркестр был на высоте, и весь концерт прошёл очень хорошо... хотя охарактеризовать такими словами выступление Андрея Гугнина нельзя, это будет изрядный understatement. Представь себе: выходит на сцену вполне ещё молодой человек, худощавый, среднего роста, с небольшой рыжеватой бородкой, самая яркая деталь внешности – носки неконвенциональной расцветки. Садится на банкетку, начинает играть, и через некоторое время уже хочется протереть глаза, потому что первое впечатление, оказывается, было ошибочным и на самом деле он здоровенного роста, под два метра, и с длинными, прямо-таки безразмерными руками. Что-то невероятное!
Дальше Ольга долго рассказывала мне про изысканное туше и филигранную технику этого пианиста – порой на грани излишней детализации, но ни разу эту грань не перешедшую. Про сногсшибательно эффектную звуковую подачу там, где фактура, как это нередко бывает у Рахманинова, уплотняется до предела. Про утончённую эксцентричность, очень уместную при исполнении «Рапсодии на тему Паганини». Про изумительный «кафешантан» в Двенадцатой вариации, безупречный вкус Гугнина и полное отсутствие у него манерности, про то, в какой восторг пришла софийская публика, как не желала отпускать замечательного музыканта даже после трёх бисов...
Я слушал, сопереживал, завидовал. Параллельно думал о том, сколь причудливо менялась судьба и оценка творчества Рахманинова в течение каких-нибудь семи десятилетий после смерти композитора. В дни моей юности заявить во всеуслышание о том, что любишь его музыку, было рискованно: ты как будто признавался в чём-то не вполне приличном. И дело не в том, что советская власть относилась к фигуре этого композитора с неодобрением, принимая его лишь условно, преимущественно в «русском» периоде творчества. Больше всего от Рахманинова воротила нос прогрессивная музыкальная общественность, считая его музыку подражательной и банальной и попросту устаревшей. Это же нонсенс – писать так, когда миру уже было явлено новаторство Стравинского, Мийо, Шёнберга, Веберна, не говоря о Шостаковиче! Подозреваю, что и за пределами СССР взгляд на Рахманинова какое-то время был примерно таким же. Но затем всё изменилось, и сегодня Рахманинов, если не самый, то по крайней мере один из двух самых исполняемых русских композиторов в мире. В чём же секрет долголетия его творчества? Вероятно, в том, что Рахманинов, как ни парадоксально это звучит, сумел выразить в музыке своё время лучше и талантливее, чем многие из тех, кто опередил его в плане технологических экспериментов. Музыкознание упорно пыталось запихнуть Рахманинова назад, в XIX век, и совершенно напрасно. Перефразируя Лермонтова, можно было бы сказать: «Он не Чайковский, он другой» (хотя и Чайковский в Шестой симфонии уже иной, нежели в Четвёртой).
Рахманинов один из немногих композиторов первой половины ХХ века, кто, сформировавшись под влиянием романтической традиции, смог выбраться из закупоренной колбы позднего романтизма, в которую уже не проникал свежий воздух извне. И сумел не оказаться в ещё более герметично запаянной колбе авангарда.
Будто услышав мои мысли, жена сказала: «Я вот ещё о чём думаю... Вполне очевидно, что Рахманинов дореволюционного периода – представитель не только позднего романтизма, но и, во многом, эстетики русского модерна. Однако в 1930-х, когда он писал симфонию №3 и в особенности «Рапсодию на тему Паганини», его музыка изменилась. Это уже не русское Art nouveau, с его плавными текучими формами, мягкостью красок и материалов. Скорее – Art déco. Но для этого стиля характерны более жёсткие, ломаные линии, неожиданные энергичные зигзаги, стальной блеск – то, что проявляется у «позднего» Рахманинова».
А ведь так и есть, подумал я.
–Правда, к «Симфоническим танцам» это относится в гораздо меньшей степени, – продолжала она.
–Ничего удивительного. Хоть это сочинение и обозначено автором как Opus 45, последний, известно, что Рахманинов использовал в «Танцах» (первоначальное название произведения) музыкальный материал, предназначавшийся для балета, над которым пробовал работать 1910-х годах. Вполне естественный ход для композитора, которому нужно вновь приняться за сочинение музыки при том, что перед этим он уже лет пять ничего нового не писал. Отсюда и такая разница: после «Рапсодии» – возвращение назад, к стилистике «Острова мёртвых» и «Колоколов». И это слышно, несмотря на некоторые приёмы, характерные для «позднего» Рахманинова.
–Цитирование мотива «Dies Irae»?
–Положим, это-то как раз давняя романтическая традиция. Другое дело, что у Рахманинова мотив «Dies Irae» обозначает совсем не то, о чём можно прочитать в некоторых статьях: мол, тема католической секвенции – это символ возмездия, угрожающего античеловечному «обществу торжества чистогана», в котором приходится жить несчастному композитору, ностальгирующему по России, с её целомудренной духовностью. Ужасный пошлый штамп!
Я вообще не понимаю, как можно сводить всё зарубежное творчество Рахманинова к двум эмоциональным полюсам – тоске по родине и неприятию жизни на чужбине! Во-первых, утверждать подобное – значит произвольно сужать его творческую индивидуальность. Во-вторых, это просто неправда. Конечно, вынужденная эмиграция стала для Рахманинова тяжёлым потрясением (как и для многих других). Но это была именно утрата родины, а не разлука с ней. Россия закончилась, она умерла, и там, где она находилась прежде, возникло нечто совсем иное, страдать по чему Рахманинов никак не мог. Тем более что он, подобно другому русскому гению, Набокову, был очень успешным человеком. И за рубежом его слава была куда прочнее и весомее, чем дома.
Сергей Васильевич любил жизнь. Чтобы понять это, достаточно послушать (а лучше попеть) его романсы; любовью к жизни дышит и невероятно красивая тема Восемнадцатой вариации, и «ресторанная» музыка фа-мажорной Двенадцатой. Мне думается, что мотив «Dies Irae», этот музыкальный символ, традиционно связываемый с роком и смертью, у Рахманинова означает не приговор неправильному мироустройству (с которым якобы ассоциируется «джазово-демоническая» синкопа), а смысл здесь совсем иной. Жизнь прекрасна, но, увы, конечна, смерть неотвратима, и как жаль, что всё это закончится! И действительно, для него вскоре всё закончилось...
Если американская музыкальная культура для Рахманинова – «символ Зла», зачем же ему понадобилось присутствовать на премьере «Рапсодии в блюзовых тонах», зачем было восхищаться талантом Гершвина? Нет, это, мягко говоря, большое упрощение. Вообще, демонизация популярной музыки – давнишняя традиция, глубоко укоренившаяся ещё в советском музыковедении. И она до сих пор не изжита, «агрессивный урбанистический фокстрот» по-прежнему преследует страдающего русского интеллигента...
Волею судьбы Рахманинов оказался в стране, культура которой кипела молодой энергией джаза, эстрадной песни, мюзикла. В России он слушал в ресторанах цыганские хоры, а в Америке – джаз, что может быть естественнее?
Безусловно, в плане музыкального языка Рахманинов всегда был и оставался прежде всего русским композитором. Однако жил он уже в новой реальности, не отгораживался от неё, ушей не затыкал и не замыкался в прошлом. Это явственно ощущается в его музыке, которая и сегодня продолжает звучать свежо и современно.
–Ты знаешь, после первого отделения концерта я подошла к солисту и сказала, что в жизни не слышала такого современного Рахманинова, как у него.
– Андрею Гугнину – мой поклон и глубокое уважение.
Фото: афиша Софийской филармонии