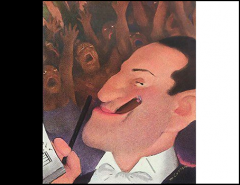Гершвин в Болгарии
Опубликовано в tikhomirov-music.com

15 февраля в Софийской филармонии состоялся очень необычный концерт. Он был целиком посвящён музыке Джорджа Гершвина, причём звучали преимущественно произведения, написанные им для фортепиано с оркестром.
Стандартно составленная концертная программа для симфонического оркестра с участием солиста обычно подразумевает исполнение одного инструментального концерта, а далее вниманию публики предлагаются несколько чисто оркестровых произведений. Здесь же всё было наоборот: концерт открывался «Кубинской увертюрой», а затем, согласно анонсу, следовали: Концерт F-dur, редко исполняемая Вторая рапсодия, Вариации на тему «I Got Rhythm» и, наконец, мировой хит – «Рапсодия в блюзовых тонах».
Конечно, это уникальное событие привлекло моё внимание, и я заранее запасся билетами. Предусмотрительность оказалась не лишней: зал филармонии был переполнен – ни одного свободного места даже на самом верхнем ярусе. И это неудивительно, программа, что называется, убойная, а осуществлять эту дерзкую идею должен был Людмил Ангелов. Любимец болгарской публики, выдающийся интерпретатор музыки Шопена, пианист, обладающий жемчужной техникой и безупречным вкусом, Ангелов по праву считается одной из самых ярких персон в созвездии болгарских музыкантов.
За дирижёрским пультом стоял маэстро Владимир Кираджиев, хорошо зарекомендовавший себя в работе со многими европейскими оркестрами.
И музыканты, и произведения великого американца принимались залом очень тепло – впрочем, в Софии публика вообще чрезвычайно благодарная, я это уже неоднократно отмечал.
А теперь поделюсь своими личными впечатлениями.
Они смешанные. На одной чаше весов – действительно интересная программа, высокий класс исполнительского мастерства солиста и добросовестная работа оркестра.
На другой стороне – художественный результат. И вот здесь мне хотелось бы большего, чем то, что я услышал.
Исполнение симфонических произведений Гершвина, безусловно, задача не из лёгких, и решать её должен прежде всего дирижёр. Как добиться, чтобы в процессе звучания раскрывались лучшие стороны этой музыки, а не присущие ей недостатки? Какой путь следует выбрать?
Вариант первый – выводить на первый план джазовую составляющую. Невзыскательной публике это наверняка понравится, однако есть риск впасть в безвкусицу и пошлость. К тому же, как мы знаем, экспериментов в области привнесения в академическую музыку элементов джаза и вообще «эстрады» было и есть предостаточно. Далеко не все они по-настоящему интересны, но в принципе этим сегодня слушателя не поразишь. Музыка Гершвина же до сих пор не утратила силы своего воздействия, а значит, её обаяние – не в «джазовости» как таковой, во всяком случае не только в этом.
Вариант второй, противоположный – сделать вид, что Гершвин «нормальный» классик, такой же, как Шопен или Бетховен, и обращаться с его произведениями соответственно: исполнять корректно, бережно, без особых тембровых, темповых и динамических излишеств. Но и этот путь может привести в тупик, потому что тут возникает риск «высушить» изумительную музыку и обнажить её слабые стороны. А их в произведениях Гершвина немало. Да, ему удалось создать «Рапсодию в блюзовых тонах», поразительное сочетание ярчайшего мелодизма, «заводных» джазовых ритмов и свежего взгляда на то, какой может быть современная «академическая» музыка в ХХ веке. Но не будем забывать о том, что в создании этого шедевра молодому неопытному композитору Гершвину оказал серьёзную помощь Ферде Грофе, профессиональный музыкант, изучавший инструментовку и композицию в Лейпциге. И в дальнейшем, в Рапсодии №2, повторить этот успех Гершвин не смог.
Главная проблема состоит в том, что в симфонической музыке он проявлял себя как супергениальный дилетант, не получивший академического музыкального образования. Дело не в отсутствии диплома: в конце концов, Гершвин мог многое освоить сам, тщательно изучая произведения европейских композиторов прошлого. Но, во-первых, у него попросту не было времени на это. А во-вторых (и это обстоятельство даже важнее), профессиональное становление Гершвина пришлось на период расцвета европейского музыкального модернизма, когда в среде композиторов уже доминировало мнение, что традиционные методы композиции не годятся для новой музыки, над формированием которой они работали. К создателям «музыки будущего» Гершвин относился с огромным почтением и с некоторыми даже дружил – мог ли он сомневаться в их правоте?
Ситуация складывалась парадоксальная. Пока Гершвин писал песни и мюзиклы, он пребывал в своей стихии, где чувствовал себя вполне уверенно. Чудесные мелодии сыпались из него как из рога изобилия, к тому же он очень точно и глубоко ощущал театр. И даже взявшись за оперу, он сумел привнести в неё свой собственный музыкальный опыт и нащупать новаторский путь, который мог бы стать для оперы ХХ века чрезвычайно плодотворным (к сожалению, не стал, но тут нет вины Гершвина). А вот симфонические жанры давались ему с трудом.
Композитор может говорить любым, самым современным музыкальным языком, но при этом он всё равно должен овладеть культурой классического музыкального мышления, а как раз этого-то у Гершвина и не было. Зато были приёмы, позаимствованные у модернистов, и он честно (и довольно наивно) пытался копировать эти приёмы и комбинировать их с классическими принципами формообразования, в которых был нетвёрд.
Несомненно, симфоническую музыку Гершвина спасает гениальный тематизм. Но есть у неё ещё одна особенность, подчеркнув которую, дирижёр может очень здорово помочь композитору. Эта особенность – яркая театральность музыкального языка Гершвина и тесная связь этого языка с колоритными разговорными интонациями иммигрантских и негритянских кварталов тогдашнего Нью-Йорка. Музыка Гершвина чрезвычайно общительна, она разговаривает со слушателем голосами жителей Ист-Сайда и Гарлема, и они буквально оживают в ней – смеются и грустят, экспансивно спорят друг с другом и обольщают собеседника, пританцовывая или расслабляясь в ленивой неге. Для того, чтобы расслышать и понять эту необычайно выразительную и темпераментную «речь», не обязательно даже владеть английским языком – достаточно слуха и желания.
С грустью вынужден констатировать, что маэстро Кираджиев не отнёсся к этой особенности музыки Гершвина с должным вниманием, как к важной эстетической установке. Это стало заметно уже во время исполнения самого первого, оркестрового произведения – «Кубинской увертюры». Результатом, на мой взгляд, явилась в целом довольно бледная трактовка этого и других произведений. Конечно, музыка Гершвина всё равно смогла очаровать слушателей, но скорее вопреки, а не благодаря стараниям маэстро.
Замечательному пианисту Ангелову в таких условиях не оставалось ничего иного, кроме как двигаться по второму из обозначенных выше путей: играть Гершвина «как Шопена». Я, разумеется, утрирую, но не очень сильно. Что ж, такой вариант вполне имеет право на существование, и всё могло бы получиться достаточно органично, если бы дирижёр в свою очередь следовал этой концепции, а не подходил к авторским указаниям в партитуре формально: дескать, если там обозначено двойное форте – сделаем двойное форте, и о чем тут думать?
Согласитесь, когда после нежных изысканных фортепианных туше из оркестра внезапно доносится грубое рявканье меди, это выглядит не очень красиво. И не способствует качественному, осмысленному выстраиванию формы.
Гершвин был гениален, но молод и неопытен, и, берясь за исполнение его произведений, необходимо помогать ему точно так же, как любому талантливому начинающему композитору. Как правило, они совершают одни и те же ошибки. Впрочем, дирижёры редко стремятся оказывать молодым неопытным композиторам подобную услугу… а жаль.