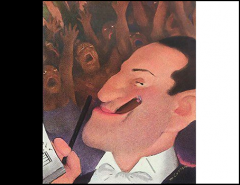Наверное, это нескромно – композитору, не имеющему твердых гарантий загробного существования хотя бы в виде строчки с именем в музыкальной энциклопедии, делиться подробностями своей биографии. Почему же я делаю это? Мне кажется, что многим людям из тех, с кем я знаком, и, возможно, некоторым из тех, с кем незнаком, будет интересно прочесть о том, как "все это" происходило тогда. Вполне допускаю, что, описывая и оценивая события прошлого, я могу быть субъективен. Но что с того? Это ведь м о и воспоминания, и за их достоверность в моей памяти я ручаюсь. А как относиться к явлениям и событиям, многие из которых сегодня воспринимаются как парадоксальные и даже отчасти отдающие мифологией, это уж дело читателя.
Меня зовут Андрей Генрихович Тихомиров (и это лишь первый из парадоксов). Вы,
вероятно, подумали, что у меня немецкие корни – но нет. Мой отец, Генрих
Пантелеймонович Тихомиров, был обязан своим экзотическим прозванием моде на иностранные
имена, докатившейся в 30-х годах до села на Вологодчине, где он появился на свет и
откуда впоследствии приехал в Ленинград, чтобы получить высшее техническое
образование.
Первые 15 лет моей жизни прошли на Васильевском острове, в Тучковом переулке, 17. Наши окна выходили на ту же самую церковь св. Екатерины, на которую когда-то глядела Анна Ахматова, жившая с мужем Николаем Гумилевым в соседней квартире:
«Был
переулок снежным и недлинным,
И против двери к нам стеной алтарной
Воздвигнут храм Святой Екатерины».

Вообще, этот дом «на Тучке» походил на обитель призраков великой эпохи: кто тут только не
жил! В нашей мансардной квартире тоже «обитал призрак», но, к сожалению, не Ахматовой
и не Гумилева, а главный «призрак коммунизма». В бытность свою студентом университета, здесь
одно время снимал комнату В. И. Ульянов. Помню, однажды к нам явились
телевизионщики, готовившие передачу об этом периоде жизни Ильича. Они долго
рыскали по комнате в поисках каких-нибудь следов присутствия вождя мирового
пролетариата и наконец «обнаружили» их на старинной медной ручке, украшавшей
деревянные межкомнатные двери – единственной детали интерьера, уцелевшей с
дореволюционных времен. Предмет, которого предположительно касалась рука
человека, уничтожившего Россию Гумилева, Рахманинова, Мамонтова и Шаляпина,
долго снимали на камеру во всех ракурсах.
О моих родителях лучше всего сказать словами А.С. Пушкина: «Простая русская семья…». В соответствии с установками того времени, молодежь 50-х предпочитала технические профессии, даже если это не вполне отвечало склонностям человека. Так и получилось, что моя мать, с ее прекрасными способностями к языкам, стала инженером; отец тоже работал на «оборонку». Бабушка, медик и капитан в отставке, была в родстве с Борисом Ливановым, но на моей памяти никаких контактов с актерской ветвью рода Ливановых она не поддерживала.
Семья наша была, если можно так
выразиться, советско-патриархальной: женщины помногу готовили, мужчины любили
выпить – и то и другое не только по праздникам.
Искусством дома всерьез никто не
интересовался. Правда, отец недурно пел, а дед с материнской стороны, летчик, провоевавший
всю Великую Отечественную, еще в юности самоучкой освоил сперва мандолину, а
потом научился бренчать в клубе на пианино, под звуки которого в его родной Пензе
показывали немое кино.
Когда мне было примерно два года,
обнаружилось, что самый легкий и надежный способ заставить меня сидеть неподвижно в
течение неопределенно долгого времени – это завести патефон. Пластинки были как
на подбор – советские песни, военные марши. Среди них каким-то образом
затесалась и классика: 1-й концерт Чайковского, разумеется, в исполнении Клиберна, символа "хрущевской оттепели", а также две сонаты Бетховена – 10-я
и 14-я и кое-что еще. Эти названия меня не заинтересовали: что такое соната
какого-то Бетховена? То ли дело «Школьный вальс» или «На сопках Маньчжурии» в
исполнении духового оркестра! Или песня «Первым делом, первым
делом самолеты!» из кинофильма "Небесный тихоход"...
Вскоре у нас появилась еще и радиола, а на
Новый год мне подарили игрушечный рояль, и я возился с ним часами, вслушиваясь
в звуки, которые можно было из него извлечь. Еще через пару лет родители
приобрели настоящее, всамделишное пианино – черный, угрожающих размеров и очертаний «Красный Октябрь», на котором мой дед наигрывал по праздникам «Амурские волны» и другие шлягеры своего времени. Похоже, ему не мешало даже отсутствие
безымянного пальца на одной из рук, утраченного во время боевого вылета (хирургом,
ампутировавшим остатки пальца, была его собственная жена, моя бабушка).
С первой учительницей музыки отношения у
меня не сложились. Молодая девушка, студентка консерватории, честно пыталась учить
меня по правилам – так, как учили в артистических семьях детей, с пеленок
приобщавшихся к серьезной музыке. Но я не оправдал надежд: этюды Гнесиной и
пьесы Майкапара казались мне скучнейшей, бессмысленной тягомотиной, я всячески
манкировал домашними заданиями и перед каждым уроком старался заблаговременно
спрятаться на чердаке. Вскоре занятия сошли на нет. Тем не менее, моя наставница горячо рекомендовала родителям отдать меня в школу при консерватории. И действительно, такая попытка была сделана, правда, окончилась она неудачей. Моими конкурентами на экзамене были хорошо подготовленные дети из интеллигентных музыкантских семей либо те немногие, кому по требованиям того времени полагалось быть принятым в качестве представителя "рабочего класса". Я же был не то и не другое, и уже через три минуты общения со мной членами приемной комиссии была констатирована полная профнепригодность "абитуриента". После чего я поступил в самую
обычную районную школу и вплоть до четвертого класса наслаждался счастливым детством в
компании других начинающих хулиганов из нашего двора.
Ничто не предвещало крутых перемен в моей жизни, беда свалилась на меня неожиданно: в один прекрасный день по радио,
звучавшему в нашей мансарде постоянным фоном, я услышал 14-ю сонату Бетховена. Мне
было всего десять лет, но через полчаса после прослушивания я уже знал, что жить без этой музыки дальше не смогу.
Я начал рыться в пластинках и выудил из стопки ту самую – с 14-й сонатой. Как сейчас помню, в исполнении Виктора Мержанова.

Я прослушал ее… не знаю сколько раз. Двадцать? Двести? Вскоре мне пришло
в голову, что это чудо ведь может где-то существовать и в виде нот. Но где их
раздобыть, вот вопрос! Наконец, матери надоело мое канюченье, она
выяснила, где находится нотный магазин и поехала со мной на Невский проспект.
Увы, «Лунной» сонаты в наличии там не оказалось. Я был убит! Продавщица
предложила нам на выбор 7-ю и 10-ю: автор тот же, так не все мне ли равно?
Крепко подумав, я отказался. Видя мое отчаяние, мать напрягла каких-то знакомых,
те – своих, и 14-я соната наконец-то оказалась у меня в руках (к тому времени я
уже твердо уверовал в то, что эти ноты – необыкновенная редкость, драгоценная реликвия).
Я почти не умел играть, испытывал кошмарные трудности с чтением нот в басовом ключе, но был
упорен в своих попытках самостоятельно расшифровать испещренные черными
значками страницы, содержащие восхитительную тайну.
Дворовые приятели были заброшены, музыка
стала моей страстью. Запомнив дорогу к открывшейся мне сокровищнице, я стал
бывать в нотном магазине очень часто, появляясь там, как только мне удавалось в очередной раз
выпросить у родителей «на дело» гривенник-другой: ноты стоили тогда
фантастически дешево. Я вожделел к ним – иначе мои чувства не назовешь. Помню
восторг, в который меня привело праздничное, к 50-летию ВОСР, издание
«Апассионаты»: красная обложка и цитата про «нечеловеческую музыку» на титульном
листе. Но самое главное – каждая часть сонаты начиналась с красной строки в
буквальном смысле слова: первая строчка нот была напечатана шрифтом
кроваво-красного цвета. Конечно же, я не успокоился, пока не приобрел эту дивную красоту.
Довольно быстро я узнал, что существуют и другие композиторы, чья музыка может быть мне интересна, но Бетховен несомненно оставался для меня первым по рангу, идеалом композитора и человека. Я истово копался в нотах бетховенских произведений и разбирал кое-как «по складам» то одну, то другую сонату, караулил новые поступления не только в нотном магазине, но и в магазине грамзаписей, предпочитая покупать те пластинки, на конвертах которых красовался портрет гения. Я даже пытался найти в своем лице черты сходства с этими изображениями и подолгу простаивал перед зеркалом, набычившись и тщетно пытаясь наладить между бровями сумрачную романтическую морщину. Естественно, результатом этих штудий явилась попытка написать собственную сонату. Кстати, до-диез минор дот сих пор остается моей самой любимой тональностью.

В
книжном отделе того же магазина на Невском я обнаружил учебники по музыкальной
литературе – школьный и для музыкального училища, а также тоненькие брошюрки, посвященные
Шуману и Шопену. Купил, прочитал и взялся за изучение творчества этих композиторов. Информацию
мне давали и сборники серии «Лира», где печатались наборы классических
«шлягеров». Таким образом я узнал имена Глинки, Моцарта, Грига и многих других.
Количество нотных стопок на верхней крышке моего пианино неуклонно росло.
Отцу мое новое увлечение не нравилось (собирал
бы лучше марки, как нормальный мальчишка!), мать же демонстрировала если не понимание, то сочувствие, и, видя такое мое рвение, даже решила, что нужно бы сводить меня в
оперный театр.
Первыми операми, с которыми я
познакомился в Мариинском, тогда Кировском театре, были «Евгений Онегин»,
«Фауст» и «Аида». Этот опыт был сплошным разочарованием: швыряться деньгами на светские
удовольствия у нас в семье было не принято, а понять в тогдашнем моем возрасте,
что такое опера, сидя во втором ряду верхнего яруса, было затруднительно. Помню только, что в «Онегине» мне понравились куплеты Трике и еще,
что я очень жалел Радамеса, толстенького коротконогого тенора, по-видимому,
иностранца (он единственный пел на чужом для меня языке), на которого поочередно накидывались с какими-то претензиями то крупнотоннажная Аида, то не менее корпулентная Амнерис.
И все-таки эти посещения оперного театра не прошли
даром. У меня имелся
набор кукол-петрушек, и вскоре, используя на подхвате младшего брата Лешу, я
уже представлял перед домашними свой первый опус, созданный в музыкально-театральном жанре.
Это была опера «Про зайцев», задуманная мною как тетралогия (не
иначе как неведомый еще мне Вагнер отбрасывал на меня свою роковую тень). Начал я с
«лирических сцен», оканчивавшихся душераздирающей смертью Зайчихи, мамы
маленького Зайчика, а следующие части «тетралогии», сочиненные в течение
года, содержали массовые батально-хоровые сцены на манер «Аиды». Хорошо помню,
что «Про зайцев»-2 я задумал и даже попытался записать на нотной бумаге,
находясь летом в Шексне, где отчаянно скучал: ведь там не было пианино.
К тому времени я уже обнаружил, что «взрослые»
оперы существуют в окружающей природе не только в виде театрального спектакля, но и в записи на
пластинках, и вскоре с удовольствием прослушал «Евгения Онегина» у себя дома, не
вылезая из кресла. А тут подоспело и новое советское издание клавира "Онегина". Ноты были
в твердой обложке синего цвета и стоили они немыслимых для меня денег –
целых ТРИ рубля и СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ копеек! Я начал
откладывать мелочь, выдававшуюся мне дома на школьные завтраки. Каждое утро я получал – а вечером опускал в копилку – 20 копеек, так что примерно
за месяц я скопил требуемую сумму и тайком от родителей приобрел-таки предмет
моего вожделения.
Узнай об этом кто-нибудь из домашних, по
головке бы меня не погладили. У меня были все основания опасаться отцовского
гнева: ведь деньги я все равно что украл, на них в то время можно было купить две
«чекушки» водки, и еще на пивко бы хватило, чтобы культурно отдохнуть в выходной.
Помню, что я долгое время тщательно прятал клавир в глубине шкафа, осмеливаясь перелистывать
его только по ночам, когда брат, спавший со мной в одной комнате, не мог этого
увидеть. Иногда, если дома никого не было, я ставил ноты на пюпитр пианино и
пытался играть, напевая. Куплеты Трике мне вполне удавались, но с остальным возникали некоторые проблемы…
Приблизительно тогда же я открыл для себя Мендельсона и принялся методично продираться через полное собрание «Песен без слов», консультируясь время от времени с школьной учительницей пения Валентиной Валентиновной. Она-то и надоумила меня поступить в музыкальную школу, благо Василеостровская ДМШ располагалась неподалеку от нашего дома. И вот, в один прекрасный день я пришел туда, сыграл перед комиссией одну, но зато самостоятельно разученную часть «Патетической» сонаты, а также романтическую «Фантазию» собственного сочинения. Ее главная тема здорово напоминала начало увертюры к «Тангейзеру», но это не оттого, что я наконец познакомился с творчеством Вагнера, а потому что Вагнер был хорошо знаком с творчеством Мендельсона, которым я не на шутку увлекся. Меня тут же приняли в 4-й класс на фортепианное отделение и одновременно на композицию в класс Жанны Лазаревны Металлиди. Началась новая жизнь.

Поскольку заниматься на рояле систематически
я начал поздно, в одиннадцать лет, карьера пианиста-виртуоза мне не светила в
любом случае. Но о моем педагоге следует все же сказать несколько слов. Фортепиано
в музыкальной школе мне преподавал Константин Константинович Рогинский, однокашник и друг Нильсена, замечательный
музыкант, к сожалению, к тому времени почти слепой и фактически безрукий: правая
кисть у него не двигалась, а левая работала с трудом – результат ранения, полученного на войне. Так что по-настоящему руки мне поставить было некому. Тем не менее именно в этом
классе районной ДМШ странным, причудливым образом в меня были внедрены основы
петербургской камерной фортепианной школы с ее интеллигентной мягкостью
звучания и салонным аристократизмом.

Грубой игры, пусть даже и очень техничной,
Рогинский не переносил на дух. Излишне громко сыгранный учеником аккорд,
попадавший на разрешение после задержания, мог исторгнуть из него звериный вопль: «Не
смей хамить!!!». Заниматься со мной кропотливой работой над правильной
постановкой рук мой наставник, увы, не мог и больше объяснял на словах, чем
показывал сам, поэтому многое мне приходилось постигать интуитивно. При всех
очевидных минусах такое положение дел давало и свой положительный эффект: у
меня не возникло никаких комплексов в отношениях с инструментом. Я просто играл
и играл все, что попадалось мне под руки:
фортепианные пьесы, сонаты и сюиты, симфонии в четырехручных переложениях, струнные
квартеты по партитурам и оперы по клавирам. В результате уже в 12-13 лет я
бегло читал с листа и обожал музицировать в ансамбле.
К игре в четыре руки меня приохотила Жанна Лазаревна Металлиди, мой первый педагог по композиции. Я пришел к ней в класс одиннадцатилетним убежденным бетховенианцем, сочиняющим фортепианные сонаты, которые, как мне представлялось, должны были продолжить дело безвременно ушедшего гения. Мое знакомство с творчеством других композиторов было весьма поверхностным, музыка же ХХ века и вовсе была мне неизвестна.

Металлиди подошла к этой проблеме с
большим тактом. «Хочешь заниматься Бетховеном? Замечательно! Вот четырехручные
переложения его симфоний, давай поиграем вместе и потом обсудим. Заодно вот тут
у меня есть и четырехручные переложения симфоний Моцарта… А сегодня в
библиотеке я взяла для нас с тобой Шуберта... а вот еще и Мендельсон…» Действуя
таким образом, ей удалось довольно быстро расширить мой кругозор.
Иногда Жанна Лазаревна приносила на урок
пестрые по составу сборники советских изданий классики, где можно было
обнаружить вещи довольно неожиданные, например, «Колыбельную» из оперы
Гершвина. Металлиди вообще поощряла мою музыкальную «прожорливость» и
всеядность и, надо отдать ей должное, умела разжечь мое любопытство. Стоит ли
удивляться тому, что, будучи проездом в Москве, между двумя поездами (из
Ленинграда в Пензу), имея всего лишь два часа времени, я помчался в центральный нотный магазин и приволок оттуда не
что-нибудь, а именно «Порги и Бесс»! Конечно, то, что в отделе старых нот я обнаружил этот клавир в черной, уже довольно обтрепанной обложке, было настоящим чудом. Это лето я вспоминаю как самое счастливое в моем отрочестве. В квартире у родственников стояло пианино. Когда взрослые уходили днем к реке, купаться, я ставил клавир на пюпитр и... В свои 13 лет я уже хорошо знал многие оперы русских композиторов, а также Верди, Пуччини, Вагнера, Массне и других. Но это... это было совершенно особое впечатление, новый волшебно красивый мир, яркий и свежий. Я понятия не имел, что в академической музыкальной среде "Порги" принято считать какой-то "недооперой", и потому был свободен от предубеждений. Для меня это была с о в р е м е н н а я опера в подлинном смысле слова. И сейчас я продолжаю думать, что Гершвин указал композиторам путь, следуя которым они могли бы помочь опере избежать нынешнего кризиса...
Одной из больших заслуг Металлиди как педагога я считаю то, что она умело подтолкнула меня к изучению вокальной музыки. Шуберт, Шуман, затем Глинка – я переиграл и пропел все их песни и романсы. Вскоре я добрался до Римского-Корсакова и, наконец, до Мусоргского, музыка которого произвела на меня сильнейшее впечатление. А там уже и до Прокофьева было рукой подать. Поначалу с непривычки я испытывал некоторые трудности с его музыкальным языком, но очень быстро освоился, и с тех пор Прокофьев прочно занял в моей душе одно из центральных мест. Поощряла моя преподавательница и знакомство с произведениями Шостаковича, особенно в период, когда я взялся за сочинение виолончельной сонаты. Но с этим композитором доверительных отношений у меня так и не возникло. И под руководством Жанны Лазаревны, и позже, занимаясь в музыкальном училище, я изучал его партитуры, исправно посещал концерты, где исполнялись его новые (последние) симфонии, однако что-то, что мне было очень трудно тогда сформулировать, меня в этой музыке отталкивало раз за разом...
Тем временем мои домашние штудии двигались собственной стезей. Постепенно у меня выработалась метода (если это можно так назвать) общения с композиторами-классиками: заинтересовавшись чьим-то творчеством, я нырял в него на недели, а иногда на месяцы (к слову сказать, и книги я поглощал точно так же – собраниями сочинений, которые добывал в магазинах по мере выхода из печати очередного "п.с.с"). В период одного из таких погружений я переболел Вагнером, переиграв по клавирам почти все его оперы, начиная с «Голландца» и до «Гибели богов» включительно, и раз и навсегда приобрел к нему стойкий иммунитет. А вот оперы Верди – тогда это были «Риголетто», «Бал-маскарад», «Отелло» и «Аида» затронули меня гораздо глубже, не говоря уже о Пуччини. «Тоска» стала моей любимой оперой (и по сей день это так), но и «Богема», «Манон Леско» и «Мадам Баттерфляй» произвели на меня сильное впечатление.
Наблюдая мою одержимость творчеством то одного, то другого европейского композитора, Металлиди тактично, но последовательно старалась сдвинуть
мой интерес в сторону отечественной музыки и даже организовала для меня
несколько визитов в кабинет народного творчества при музыкальном училище. Я пришел туда, начитавшись учебников, настроенный очень серьезно, с готовностью
услышать образцы «прекрасной крестьянской лирики», этакие романсы
Римского-Корсакова и Чайковского, но дышащие безыскусной природной красотой. Елена
Николаевна Разумовская, встретившая меня в лаборатории, к своей
просветительской задаче отнеслась тоже очень ответственно. В качестве
наилучшего примера для знакомства семиклассника с русским фольклором ею был
выбран вологодский похоронный плач. Изобразила она его самолично, в полный голос и так убедительно, что я не на шутку
перепугался. Тем не менее, и этот опыт отпечатался в моем мозгу, и вскоре я написал сюиту для двух фортепиано «Кому на Руси жить хорошо», где под номером 2 шла
пьеса «Плач об умершем кормильце». Правда, популярной и часто играемой на
концертах Василеостровской ДМШ стала не эта пьеса, а первая - «Ярманка»,
которая как раз была вполне «корсаковской» по стилю и характеру.
На протяжении всех этих лет учения я, как алчущий маньяк, собирал ноты, и вскоре у меня собралась очень приличная библиотека (впоследствии почти целиком подаренная мною специальной музыкальной школе при консерватории). Особенно вожделел я к оперным клавирам. Знакомство с каждым из них становилось ярким событием, навсегда запечатлевавшимся в памяти. Хорошо помню, например, как одним чудесным декабрьским вечером я возвращался домой из музыкальной школы – витрины магазинов светились по-новогоднему, и наш Васильевский остров с его домами в стиле Модерн, украшенными башенками и узорчатыми решетками, выглядел совершенно как картинка из сказки Андерсена. Я шел и думал о том, что дома меня ждет новенький свежеотпечатанный клавир "Богемы" – какое предвкушение! Накануне он поступил в "Рапсодию", и я купил его утром, в очередной раз прогуляв ради набега на нотный магазин уроки в общеобразовательной школе. Заодно приобрел там еще один новый для меня клавир: "Икар" Слонимского. Ну, через "Икара" мне пришлось изрядно продираться, а вот "Богема" стала настоящим пиром и сразу же – одной из самых моих любимых опер. Это был прекрасный Новый Год!
К моменту окончания музыкальной школы я уже всерьез интересовался современной музыкой: изучал творчество Щедрина и посещал концерты питерских мэтров – Слонимского, Тищенко и Уствольской.
Вопреки упорно циркулирующим в музыкантской среде легендам о якобы наложенным властями табу на музыку Уствольской, в описываемые мною времена ее сочинения не только регулярно звучали в концертах современной музыки, организуемых Союзом композиторов, но и были доступны в виде качественно изданных нот. И вообще она была заметной фигурой, признанным лидером ленинградского музыкального авангарда. Что это такое, я в то время представлял себе не очень отчетливо, но это загадочное "нечто" будоражило мое воображение. Поступая в музучилище, я определился в класс Галины Ивановны. Впрочем, выбор был невелик: вторым педагогом, ведущим молодых композиторов, был Владлен Павлович Чистяков – как я теперь понимаю, неплохой музыкант, который, вероятно, мог бы кое-чему меня научить, но давно закрепившаяся за ним репутация ревностного коммуниста, если не кое-чего пострашнее, вынуждала многих его коллег сторониться этого человека. Так что, несмотря на свое плохо скрываемое неприятие творческой манеры Уствольской, Металлиди привела меня и двух других своих учеников того выпуска именно к ней. Первая встреча с Уствольской почти изгладилась из моей памяти. Помню только странное выражения ее лица – та смесь испуга, стеснительности и недовольства, которую затем я наблюдал очень часто, когда к ней приближались студенты... да и вообще кто бы то ни было.
В музыкальном училище им. Н. А. Римского-Корсакова я совмещал занятия на двух отделениях – фортепианном и теоретико-композиторском и вдобавок факультативно занимался вокалом, но проучился там всего три года вместо обычных четырех, так как уже через месяц после поступления я был переведен сразу на второй курс. Инициатором этого скачка был Адам Соломонович Стратиевский, блестящий педагог-музыковед и необычайно обаятельный человек, теплые отношения с которым сохранялись у меня потом на протяжении многих лет. Помнится, на первом же занятии по музыкальной литературе он, чтобы сразу продемонстрировать нам, первокурсникам, сколь мало мы знаем и еще меньше умеем, поставил на рояльный пюпитр карманную партитуру моцартовского квинтета и предложил нам по очереди сыграть эту музыку по нотам. Что ж... в то время я уже читал партитуры достаточно свободно, что и продемонстрировал. Когда урок закончился, Стратиевский отозвал меня в сторонку и сказал: "Слушайте, Андрей, а что вы, собственно, тут делаете? Время только теряете!Переходите-ка на второй курс." И дело было сделано.
Одним из моих однокурсников был соученик по классу Металлиди Леша Николаев, рано ушедший из жизни, причем по собственной воле. Тогда это был странноватый, малообщительный подросток, погруженный в музыку позднего Скрябина и старательно воспроизводивший его стиль в своих сочинениях. Мы оканчивали школу одновременно и вместе поступили в класс Галины Ивановны Уствольской. Перепрыгнув через два семестра, я оторвался от Николаева и еще двух своих однокурсников – Васи Корунченко и Сережи Евтушенко, с которыми успел уже в разной степени сблизиться. Но мы продолжали общаться, потому что все четверо были учениками Уствольской. Корунченко так же, как Николаев, ушел из жизни очень юным, восемнадцатилетним, и тоже добровольно. Таким образом, из нас четверых, поступивших в класс Галины Ивановны одновременно, двое впоследствии совершили акт самоубийства.
Уствольская… Редко бывает так, чтобы
сокровенное «я» художника, раскрывающееся в творчестве, и его человеческая
личность совпадали на сто процентов. В случае же с Уствольской совпадение было полным.

Петербургский композитор Борис Тищенко однажды сравнил аскетизм ее музыки с узостью лазерного луча, прошивающего металл. Сравнение удачное, только нужно понимать, что дело тут не только в наборе отобранных композитором технических приемов и даже не в сознательном и добровольном ограничении творческих принципов. Лазерный луч прошивает не только металл, но и все живое.
Несомненно,
Уствольская была очень своеобразной личностью, обладавшей способностью оказывать
сильное воздействие на окружающих, и я был одним из тех, кто испытал на себе ее влияние. Я
не раз оставлял без ответа просьбы разных людей рассказать о ней и предпочитал
отмалчиваться даже тогда, когда уже и в
интернете появилось достаточно материалов, касающихся Галины Ивановны – записей
ее произведений, видео с ее участием, публикаций ее писем и высказываний, интервью
с людьми, общавшихся с ней, и т. п. И даже сейчас я пишу это, не будучи
уверенным, что захочу обнародовать свои воспоминания о ней полностью. И дело не
только в том, что на протяжении трех лет я был студентом ее класса (а об
учителях, живых или ушедших, принято говорить, как о покойниках, только хорошее
– или молчать). Моя личная проблема заключается в том, что на протяжении почти
шести лет я общался с Уствольской очень тесно, по ее просьбе обращался к ней по имени – «Галя» и
говорил ей «ты». Ну и как мне теперь писать о ней?
Сближение это произошло, когда мне было
18 лет, а ей около 60. Уствольская была известным, пусть и в узких музыкантских
кругах, композитором и вела класс сочинения в учебном заведении, где я был просто одним из
студентов. Тем не менее, сложилось так, что я стал часто бывать у нее дома, нередко засиживаясь до
глубокой ночи, благо мои дедушка с бабушкой жили неподалеку и
готовы были принять меня в любое время суток. С Уствольской мы вели беседы столь же долгие, сколь
и странные. Я наблюдал ее быт; со мной она иногда позволяла себе откровенные
высказывания, касавшиеся ее творчества, и – намного чаще – людей, с которыми ее
сталкивала жизнь. Не знаю, кто еще из учеников Уствольской был вовлечен в
такое, как сказали бы сегодня, неформальное общение с ней. Возможно, лишь некоторые, возможно – никто.
Я не уверен: можно ли назвать эти отношения
дружбой? Ведь дружба предполагает двустороннюю привязанность и взаимный интерес
сторон друг к другу, с Галей же это была всегда игра в одни ворота. Я не могу
вспомнить, чтобы она хоть раз поинтересовалась чем-то, касавшимся моей жизни, моих интересов,
моих занятий. Все разговоры крутились вокруг нее самой или же передавали ее мнение о чем-то или о ком-то. Мнения других людей ее не занимали вовсе. Пожалуй, и сами люди тоже. Сейчас этот феноменальный эгоцентризм
кажется мне чем-то странным и даже не вполне здоровым. Тогда же я воспринимал
его как должное. Наши отношения были отношениями живого идола и юного адепта,
личности, возведший себя в культ – и служителя этого культа…
(Продолжение когда-нибудь последует).