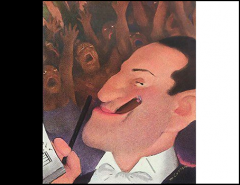Шляпы долой, господа, перед вами… Гершвин! (Часть 2)
Опубликовано в classicalmusicnews.ru

После триумфального успеха, выпавшего на долю Концерта для фортепиано с оркестром (он был исполнен 3 декабря 1925 года в Карнеги-холле в одной программе с Пятой симфонией Глазунова – приятная подробность!), на Гершвина многие стали смотреть как на главную надежду американской музыки. Друзья-музыканты всячески ободряли его, и сам он, всегда взиравший на «академических» коллег с детским почтением и даже с неким сакральным трепетом в душе, стал чувствовать себя в их обществе более уверенно.
Правда, мнения профессионалов опять разделились. Наиболее влиятельные нью-йоркские критики пожимали маститыми плечами и продолжали высказываться в том смысле, что симфоническая музыка Гершвина вульгарна и примитивна, типичная «разлюли-малина» (или в данном случае правильнее говорить о «разлюли-секвойе»?). Другие, настроенные более благожелательно, советовали композитору прекратить тратить время на ерунду, немного подучиться и сосредоточиться на настоящей, серьезной работе. Под «ерундой», разумеется, подразумевались песни и мюзиклы.
К счастью, были и те, кто ощущал в музыке Гершвина свечение гениальности вне зависимости от того, к академическому или популярному жанру относилось написанное им произведение. К числу таких людей принадлежал, например, английский композитор и органист Джон Айленд, к которому однажды попала пластинка с записью песни Гершвина «Любимый мой». По свидетельству друзей и учеников, этот в высшей степени серьезный музыкант прокручивал ее на проигрывателе снова и снова, нервно прихлебывая виски и восклицая:
«Вот он настоящий шедевр, вы слышите? Этот Гершвин превзошел всех нас. Он садится и сочиняет одну из самых оригинальных, самых совершенных песен нашего века. Симфонии? Концерты? Чушь! Кому нужна какая-то там симфония, если он может написать вот такую песню?! Это же совершенство… само совершенство!»
– и так раз за разом, пока не заслушал пластинку до дыр.

Джон Айленд
Наиболее же прозорливые, такие как Надя Буланже и Морис Равель, понимали самое главное – что «звучащая материя», выходящая из-под пальцев Гершвина, создается из качественно нового звукового «сырья». И для работы с ним нужны какие-то иные методы, иные технологические приемы, отличающиеся от тех, что были выработаны в композиторской практике XVIII-XIX веков. Утверждать, что эти подходы уже открыты, было бы неправдой.
Вообще говоря, если кто-то и мог в то время понять, в каком именно направлении ведет Гершвина его инстинкт, то это был именно Равель. Он тоже упорно искал в музыке новые пути, и эти пути, совершенно очевидно, уводили в сторону от дороги, прочерченной из ясного, уверенного в себе венского классицизма сквозь романтический 19 век, затем потерявшейся в орхидейных джунглях скрябинско-штраусовского модернизма и, наконец, приведшей композиторов прямиком в точку «X», к рационализаторским производственным моделям нововенцев…

Джордж и Айра Гершвины - шарж
Порывать с «легким жанром» Гершвин, конечно же, не собирался. Не только потому, что бродвейские мюзиклы и выходившие гигантскими тиражами пластинки с записями его песен, для этих мюзиклов создававшихся, приносили ему и брату Айре, ставшему его постоянным соавтором, хороший доход (в 1925 году семья Гершвинов приобрела роскошный пятиэтажный дом близ Риверсайд-драйв, и это было только начало). Джордж любил атмосферу музыкального театра, и ему нравилась эта работа.
В сознании американских театралов 20-х-30-х годов ХХ века мюзикл занимал особое место, сопоставимое с тем местом, какое в жизни европейских театралов предыдущего столетия занимали спектакли оперных и балетных трупп.
“Не представляю, как все эти четыре недели Харолд Росс еще ухитрялся издавать “Нью-Йоркер”. Ведь все его сотрудники, во главе с Питером Арно, с утра до вечера, разинув рты, сидели на репетициях”, – пишет Лоуренс Сталлингс, драматург и критик, своему приятелю после премьеры музыкальной комедии «О, Кэй!» (Oh, Kay!).
Этот мюзикл, открывшийся на Бродвее в ноябре 1926 года, стал одним из самых успешных спектаклей того времени. Блистательным там было все: изящные и остроумные тексты Айры Гершвина, образы персонажей, актерская игра. Но главное – музыка. И сегодня, спустя 90 лет, песни Джорджа Гершвина из этого мюзикла звучат все так же обаятельно и свежо.
Еще одной театральной работой Гершвина, ярко выделившейся на фоне обычных бродвейских проектов конца 20-х-начала 30-х, стал мюзикл «Пою о тебе» (Of Thee I Sing) – острейшая сатира на американскую политическую систему и психологию обывателя, ею опекаемого.
Сюжет этой музыкальной комедии закручивается вокруг интриги, связанной с избирательной кампанией и воцарением в Белом Доме некоего Джона П. Уинтергрина (фамилия звучит в этом контексте несколько парадоксально, вроде нашей «Октябрьской весны»).
По замыслу выдвигающих его «политических тяжеловесов», Уинтергрин должен взойти на американский Олимп рука об руку с «Мисс Белый Дом» – победительницей конкурса красоты Дианой Девре. И, естественно, жениться на ней. Но сразу после победы на выборах «президента любви» выясняется, что он влюблен в другую…
Либретто было написано Джорджем С. Кауфманом и Морри Рисскиндом, тексты музыкальных номеров – Айрой Гершвином. Создатели мюзикла до самой премьеры не были уверены в успехе шоу, ибо, как сказал Джордж Кауфман, являвшийся одновременно и продюсером этого проекта, «Сатира – это то, что закрывается в субботу вечером».
Тем не менее, их ожидал триумф. И если вы думаете, что американская аудитория, в массе своей настроенная вполне патриотически, усмотрела в этом спектакле что-то для себя оскорбительное, то вы очень ошибаетесь. Хотя «усмотреть» там было что! Чего стоят одни только лозунги президентской кампании главного кандидата: «Уинтергрин – это стойкий аромат радости!», «Даже ваша собака любит Уинтергрина!», и так далее.
«Of Thee I Sing» в оригинальной версии был представлен на Бродвее 441 раз, а в 1932 году стал первым мюзиклом, удостоенным Пулитцеровской премии.
Слушая этот мюзикл, искрящийся остроумными композиторскими находками и музыкальными темами, сразу сделавшимися хитами, явственно ощущаешь, что Гершвину уже тесно на покоренном им пространстве. Но будучи мастером своего дела, он прекрасно чувствует границы жанра: их можно постепенно расширять, но взламывать нельзя. И вместо того чтобы перекраивать уже построенное другими, Гершвин, с присущей ему гениальной интуицией, начинает подыскивать территорию, на которой он сможет возвести новый «небоскреб». Такой территорией для него станет опера.

Гершвин в 1927 году
Но до этого еще далеко, и Джордж пока что наслаждается пришедшей к нему славой. Насколько популярной фигурой он стал к концу 1920-х годов, видно по количеству фотографий, запечатлевших его в это время.
Гершвин не только очень обаятелен и общителен, он еще и превосходный танцор и обожает спорт – типичный американец. На вечерах, куда его приглашают, он готов играть на рояле часами, просто для удовольствия: к инструменту его тянет как к магниту. У него масса друзей, и даже его склонность покрасоваться перед собеседником не отпугивает от него людей, а скорее обезоруживает – эта слабость проявляется у Гершвина в такой непосредственной, по-детски трогательной манере!
Женщины влюбляются в него до безумия, буквально преследуют его, но он не спешит связывать себя узами брака, несмотря на многочисленные увлечения.
Катарина (Кэй) Фолкнер Свифт, музыкально одаренная, умная и прекрасно образованная молодая женщина оставляет ради него своего мужа банкира. Джордж испытывал к Кэй глубокую симпатию, она стала его близким другом, но семьи у них не получилось.

Кэй Свифт
Наверное, он просто не мог по-настоящему влюбиться, и не стоит осуждать за это гениального композитора, душевная, сокровенно-эмоциональная жизнь которого почти целиком трансформировалась в музыку.
Не только Америка аплодирует Гершвину и признается ему в любви, но и Европа. Во время своих британских гастролей он получает приглашение в Букингемский дворец. Принц Георг, сын короля Георга V, считает за честь называться другом этого сына еврейского иммигранта, в недавнем прошлом пианиста с Улицы Жестяных Кастрюль, и дарит ему свое фото с собственноручной надписью: «Джорджу от Джорджа».
Завоевание Парижа, правда, достается Гершвину с несколько большим трудом. В 1928 году на Елисейских полях ставят балет «Рапсодия в голубых тонах», а в Гранд-Опера исполняется концерт Гершвина для фортепиано с оркестром. В зале овация, а на лицах представителей музыкально-театрального бомонда, русско-эмигрантского в особенности, кислое выражение.
По мнению Сергея Дягилева, концерт Гершвина – это «хороший джаз, но плохой Лист». Н-да, боюсь, что в джазе Дягилев разбирался скверно. А что касается пианизма… Как известно, Стравинский написал специально для него четырехручную, а точнее, трехручную «Польку» с партией аккомпанемента типа «ум-па, ум-па». Наверное, не зря.

Игорь Стравинский и Сергей Дягилев
Сергей Прокофьев, которому, уж во всяком случае, невозможно отказать в прекрасном музыкальном слухе, щегольнул знанием джазовой терминологии и охарактеризовал сочинение Гершвина как простейшую последовательность 32-тактных корусов. Ему оно тоже показалось слишком простым и незамысловатым. Сергей Сергеевич, где были ваши гениальные уши?
Хотя… чему тут удивляться. Когда музыка в своем развитии постоянно усложняется, когда от одного композиторского поколения к другому напряжение между различными ее элементами неуклонно возрастает и все это воспринимается как движение по пути прогресса, очень трудно представить себе, что в какой-то момент внезапно может наступить «разрядка».
Но вопреки распространенной точке зрения, признаком грядущей радикальной смены музыкального стиля является не дальнейшее усложнение композиторских технологий, а наоборот, радикальное их упрощение. На ранних этапах во всяком случае. Если бы И. С. Бах мог услышать симфонии Гайдна, он бы в лучшем случае недоуменно развел руками: ну и примитив, сплошные танцульки! И действительно так – в сравнении с тройной фугой. А вот с точки зрения новообретенных принципов диалектического музыкального развития эта музыка – мощный рывок вперед, образец новаторского мышления, открывающего путь к вершинам бетховенского симфонизма…
Сам Гершвин ни о чем таком, скорее всего, не задумывался. Парижская публика его принимала хорошо, это было для него главным, ведь он-то был очарован Парижем давно, еще с первого своего визита во Францию.
– Об этом городе можно столько всего написать! – с наивным восхищением говорил Джордж друзьям, сопровождавшим его во время осмотра достопримечательностей французской столицы.
– Уже все написано, – отвечали друзья, усмехаясь.
Все уже написано? Как бы не так! – И 13 декабря 1928 года Оркестр Нью-Йоркского Филармонического симфонического общества под управлением Вальтера Дамроша исполняет новое произведение Гершвина: «Американец в Париже».
Музыкальный критик и пропагандист американской музыки Димс Тейлор посоветовал композитору подготовить к премьере аннотацию, которая сможет провести каждого из сидящих в зале по всем перипетиям музыкального «сюжета» этой вещи, подобно тому как профессиональный гид ведет по парижскому маршруту группу вверенных ему американских туристов. У меня есть подозрение, что Тейлор, с подачи и, вероятно, при помощи которого была написан этот текст, брал пример с нашего Стасова. А может быть, все страстные адепты национального искусства в чем-то до боли похожи друг на друга?
Развернув буклет с программой концерта, ошеломленный слушатель читал:
“Представьте себе американца, приехавшего в Париж, который теплым солнечным утром в мае или июне прогуливается вдоль Елисейских полей. С присущей ему энергией он начинает с представления самого себя и затем несется на всех парусах под звуки 1-й Темы Прогулки, простой, диатонической по своему строю, которая призвана передать ощущение свободной жизнерадостной французской нации.
Его американские уши и глаза с удовольствием впитывают звуки и краски города. Его особенно забавляют французские такси, что спешит подчеркнуть оркестр в коротком эпизоде, где звучат четыре настоящих парижских клаксона… Им поручена особая тема… о которой всякий раз возвещают струнные, когда подходит их черед. (…)”

Те самые клаксоны…
“В этом месте маршрут Американца становится не совсем понятным. Может быть, он продолжает спускаться по Елисейским полям; может быть, он свернул на другую улицу – композитор оставляет этот вопрос открытым. Однако, судя по тому, что внезапно возникает технический прием, известный под названием соединяющий пассаж, у вас совершенно справедливо возникает мысль о том, что перо Гершвина, ведомое невидимой рукой, сотворило музыкальный каламбур, и что когда возникает 3-я Тема Прогулки, наш Американец, перейдя Сену, оказывается где-то на левом берегу. Она (тема) безусловно, не столь французская по духу, как предшественницы, но говорит по-американски с французской интонацией, как и подобает говорить в этом районе города, где собирается так много американцев. (…)
И вот оркестр представляет нам нескромный эпизод. Достаточно сказать, что к нашему герою подходит скрипка-соло (в регистре сопрано) и обращается к нему на самом очаровательном ломаном английском языке; не расслышав или не разобрав ответа, она повторяет свою реплику. Какое-то время длится этот односторонний разговор.
Разумеется, поспешим мы добавить, вполне возможно, что и с автором и с нашим главным героем обошлись очень несправедливо и что весь этот эпизод лишь музыкальная модуляция. Такая интерпретация вполне правдоподобна, так как иначе трудно поверить в то, что в результате происходит; наш герой начинает тосковать по дому. Ему грустно; и если внимательно прислушаться к оркестру, это становится очевидным.
Его охватывает всеподавляющее горестное чувство, что он здесь чужой, что он самое несчастное существо в мире, что он иностранец. Холодное голубое небо Парижа, вдалеке – устремленный вверх шпиль Эйфелевой башни, книжные завалы на набережной, ажурные тени каштановых крон на чистой, залитой солнцем улице, – к чему вся эта красота?»
И т. д., и т. п., на нескольких страницах…
Все это очень мило, но когда я слушаю «Американца», у меня невольно возникает вопрос: а не слишком ли старательно – точь-в-точь как в тексте программы, Гершвин пытается воссоздать портрет Парижа в звуках? Уж больно много тут усредненно-водянистой, «обще-французской» музыки – кто только не писал такую в это время.
«Американец в Париже», Берлинский филармонический оркестр, дир. Саймон Рэттл
Становление композитора-симфониста – процесс длительный и многоступенчатый. Трудно сказать, что получилось бы у Гершвина, имей он возможность написать еще несколько крупных произведений для оркестра. Совершил бы он новый прорыв или, реализовав опасения Мориса Равеля, «академизировался»? Или же вновь и вновь воспроизводил бы схему «Рапсодии в голубых тонах», как он это делает во «Второй рапсодии»? От ощущения «самовторичности» в этом сочинении, написанном в 1931 году, не спасает даже изумительная по своей оригинальности медленная тема, распускающаяся, как прекрасный цветок.
«Вторая Рапсодия», Джошуа Пирс – ф-но, Симфонический оркестр Словацкого Радио, дир. Кирк Тревор
Похоже, Гершвин и сам чувствовал, что здесь он уперся в какой-то тупик…
Не симфонии, а опере, «Порги и Бесс» суждено было стать третьим и последним абсолютным шедевром Гершвина в академическом жанре. Именно на территории оперы он смог реализовать свои самые смелые и оригинальные творческие идеи, отторгаемые мюзиклом ввиду своей «крупнотоннажной» многослойности и, вместе с тем, не встающие в пазы академического симфонизма.
Мысль о создании настоящей американской оперы Гершвин вынашивал долго, более десяти лет. Но понимание того, каким должно быть это произведение, оформилась у него сразу: он задумал скрестить традиционную классическую оперу с джазом – не более, не менее! Джаз являлся очень важной составной частью американской культуры, и для Гершвина самым существенным было, вероятно, именно это. С точки же зрения интересов оперы как жанра обращение к джазу означало смелую попытку расчистки почти уже заросшего русла источника, из которого опера подпитывалась живыми «природными» интонациями и ритмами на протяжении всего периода своего расцвета. Я имею в виду, конечно же, бытовую музыку.
«Хорошо забытое новое»... Для середины, ну, почти середины ХХ века эта идея была поистине революционной. Шел 1934-й год. «Воццек» поставлен в театре еще 8 лет назад, и Берг трудится над «Лулу». Шенберг уже написал ту часть «Моисея и Аарона», которую ему было суждено написать.
Между прочим, Гершвин был горячим поклонником музыки Берга; интересовался он и музыкой Шенберга, а Шенберг, со своей стороны, считал Гершвина выдающимся композитором-новатором и отдавал должное его феноменальному дарованию.
С изобретателем додекафонного метода композиции Гершвин даже подружился в последние годы жизни, когда жил в Лос-Анжелесе. Шенберг, вынужденный эмигрировать из Германии, тоже поселился в Голливуде и мечтал о карьере кинокомпозитора. В этот период автор неоконченной философской оперы «Моисей и Аарон» стал носить рубашки густо-розового цвета с зеленым галстуком в белый горошек и ярко-лиловый ремень с экстравагантно крупной золотой пряжкой. Он проводил много времени на теннисном корте со своим американским приятелем и позировал ему для портрета – живопись в ту пору сделалась одним из больших увлечений Гершвина.

Гершвин рисует Шенберга
Чем же могло привлекать Гершвина творчество двух таких не похожих на него композиторов, как Берг и Шенберг?
Гершвин вообще был чуток ко всему новому. Но в особенности его интересовало то, что открывало для музыки какие-то иные возможности, отличные от тех невозможностей, в которых увязли его американские коллеги, кичившиеся своим европейским музыкальным образованием, а на деле кормившиеся уже изрядно подгнившими отбросами немецкого позднего романтизма.
Влияние «Воццека» явственно ощущается в «Порги и Бесс». Но, конечно, не только «Воццека». С непосредственностью гения Гершвин соединил здесь элементы новой немецкой и французской мелодекламации с интонационными и ладовыми пряностями спиричуэлс, приметы русской «народной» музыкальной драмы с приемами итальянской веристской оперы, джазовые ритмы и гармонии с равелевской пейзажной звукописью… И все это существует в опере Гершвина в едином комплексе, не распадаясь на отдельные противоречащие друг другу элементы. Поразительно!
Этому сочинению, ставшем вершиной творческого пути гениального композитора, я посвятил отдельное эссе Летний день на оперном закате, здесь же расскажу о том, какой была реакция публики и критики.
Учитывая все предыдущее, нетрудно догадаться, что премьера «Порги и Бесс» прошла без неожиданностей – в том смысле, что публика отнеслась к опере с громадным энтузиазмом, вознаградив авторов и артистов пятнадцатиминутной овацией на предварительном показе в Бостоне и бурно демонстрируя свой восторг после первого же исполнения в Нью-Йорке, а музыкальная критика приняла оперу в штыки.
Вирджил Томсон на правах крупного специалиста (он был не только авторитетным музыкальным журналистом, но и композитором, учеником Нади Буланже – вот его она учить не отказалась!) охарактеризовал «Порги и Бесс» как дешевку, вульгарную и фальшивую полуоперу, извращающую и фольклор, и саму идею оперы как высокого искусства.
Ну кто бы сомневался…

Вирджил Томсон
Лоренс Гилман (тот самый, который еще «Рапсодию в голубых тонах» называл «банальной, бессмысленной и устаревшей музыкой») писал:
“Слушая такую обреченную на популярность безделушку, как дуэт «Теперь ты моя жена, Бесс…» (“Bess, You Is My Woman Now”) невозможно не удивляться тому, что композитор опустился до таких ненужных и легких побед”.
Что ж, давайте и мы послушаем немного.
«Порги и Бесс», фрагмент первой сцены II акта. Леона Митчелл, Кливлендский оркестр, дир. Лорен Маазель
Действительно, невозможно не удивляться! Каким образом композитор, даже гениальный, сумел в одиночку разрешить проблему, с которой уже в то время столкнулись его намного более подкованные в профессиональном плане европейские коллеги – проблему утраты оперой ее основных видообразующих признаков и свойств?
Трудно отделаться от мысли, что проживи Гершвин еще хотя бы лет десять, он мог бы далеко продвинуться по найденному пути. Вполне вероятно, что он создал бы еще несколько превосходных опер в разных жанрах, закрепив свой успех и обретя последователей в разных странах. И тогда весь музыкальный мир, возможно, согласился бы с тем, что оформившийся в ХХ веке немецкий стандарт оперы, лишенной пения, мелодии, демократического музыкального языка, тесно связанного с современными композитору бытовыми жанрами, – это не единственный и уж точно не лучший вариант для ее дальнейшего развития и процветания.
Увы, этому было не дано осуществиться: трагедия уже назревала. Гершвин так никогда и не узнал, что его детищу суждено завоевать сцены множества оперных театров мира. Он бы и не поверил – ведь, несмотря на горячий прием у публики, американскую премьерную серию «Порги и Бесс» было трудно назвать успешной в финансовом отношении: убытки составили 70 тысяч долларов. Да, это вам не мюзикл…
Гершвин решает, хотя бы временно, переключить свое внимание на работу в Голливуде. Он добивается успеха и на этой ниве, хотя кинопродюсерам его музыка кажется избыточно интеллектуальной и сложной.
Кипучая жизнь Лос-Анжелеса очень нравится его брату Айре, но Джорджа она утомляет. Он рвется в Нью-Йорк, хочет продолжать писать музыку для театра, думает попробовать себя в хоровых жанрах, строит планы новой поездки в Европу, где он смог бы заняться изучением фольклора разных стран.

Айра Гершвин - шарж
В Лос-Анжелесе Гершвин возобновляет свои выступления как пианист – для него это настоящая отдушина, живая музыка, непосредственное общение с музыкантами и публикой. И все же он чувствует себя усталым, разочарованным и нездоровым. Всегда такой жизнерадостный и неутомимый, Гершвин как будто теряет вкус к жизни. Это похоже на обычную депрессию вследствие переутомления, и окружающим очень хочется так думать. Но дело обстоит гораздо хуже. У Гершвина появляются обонятельные галлюцинации, сопровождающиеся кратковременными отключениями сознания – зловещий симптом!
Первый такой приступ случился в феврале 1937 года прямо на сцене, когда Гершвин исполнял с Лос-Анджелесским Филармоническим оркестром свой фортепианный концерт. Он на мгновение потерял сознание, а очнувшись, ощутил резкий запах жженой резины. Тем не менее – волевой человек! – как ни в чем не бывало продолжил свое выступление.
Вскоре это повторилось, потом еще раз и еще. А через несколько недель у него начались сильные головные боли. Во время таких припадков он буквально не может пошевелиться. И все же, когда его отпускает, пытается играть на рояле.

Джордж Гершвин в Лос-Анжелесе. Последнее фото
Врачи – в соответствии с прогрессивными веяниями в медицине того времени это были, разумеется, психотерапевты, рекомендуют Джорджу полный покой и курс психоанализа с целью излечения от эмоциональной зависимости от матери. Да уж, действительно – самое время этим заняться! Но состояние объекта их забот продолжает ухудшаться, и наконец, после тяжелого обморока, случившегося 9 июля, диагноз становится очевидным уже всем: опухоль головного мозга. И, как сразу же выясняется, неоперабельная.
Морису Равелю, измученному тяжелым мозговым заболеванием и медленно угасавшему у себя в Монфор-Л’Амори, оставалось еще полгода жизни.
Последним, что он успел записать, была песня, одна из трех, сочиненных им для кино. Последним произведением стремительно гибнущего Гершвина тоже была песня и тоже для кино.
11 июля 1937 года Джорджа Гершвина не стало.
Многотысячная и многонациональная толпа нью-йоркцев, пришедших проститься со своим композитором, стояла под проливным дождем перед синагогой на Пятой авеню. Во время погребальной службы еврейские молитвы перемежались с произведениями европейских композиторов: Баха, Генделя, Бетховена, Шумана в исполнении пришедших на церемонию музыкантов. А покинуло храм тело Гершвина под звуки «Расподии в голубых тонах».
Гроб несли два мэра Нью-Йорка, тогдашний и бывший, и несколько знаменитостей. В их числе Эл Джолсон (тот самый «псевдо-негр» из Ковно) и Вернон Дюк, он же Владимир Александрович Дукельский, выдающийся музыкант и литератор, автор ряда произведений, написанных в академических жанрах, и многих популярных песен, некоторые из которых вошли в золотой фонд американского джаза; отпрыск русского дворянского рода.
Господу Богу – я всегда так думал – нет никакого дела до межрелигиозных и межконфессиональных разборок, наших человеческих фанаберий и претензий народов на избранность. Он раздает людям таланты по иным, неведомым нам принципам. Жаль только, что у некоторых этот дар отбирается слишком рано, вместе с жизнью…
Если бы мне довелось когда-нибудь увидеться с Создателем и задать Ему один-единственный вопрос, я бы спросил: «Господи, почему был остановлен Джордж Гершвин?!» Этот вопрос меня действительно мучает.