Разбитое зеркало
17.02.2018

17 февраля, 30 лет назад, наш мир покинул Александр Башлачев. Для меня, как и для многих, кому довелось с ним встречаться и разговаривать – Саша Башлачев.
Впервые я услышал его голос на аудиокассете, которую привезли гостившие у нас в Петербурге (тогда Ленинграде) друзья-москвичи.
Шел 1986 год. Я, не так давно окончивший консерваторию композитор, не был ни любителем, ни тем более знатоком бардовской песни и русского рока. И даже о существовании у нас в городе Рок-клуба не имел понятия – все это было от меня крайне далеко. Поэтому к предложению послушать пение какого-то парня с гитарой отнесся поначалу без всякого энтузиазма: «Ну хорошо, послушаем, только лучше не сейчас, а завтра, ладно?».
Посиделки, болтовня, то да се – в общем, времени на этого самого Башлачева нам не хватило. Но когда друзья отбыли домой в Москву, мы с женой обнаружили на кухне «забытую» ими кассету. В те времена тотального дефицита просто так магнитофонными кассетами не разбрасывались. Она лежала на обеденном столе, олицетворяя собой молчаливую просьбу: послушайте это! – и нам пришлось вставить ее в магнитофон.
Молодой сипловатый голос не столько пел, сколько выкрикивал стихи, смысл которых поначалу было трудно разобрать на фоне громыхания гитары, да еще и с каким-то назойливо звенящим призвуком: как потом я выяснил, этот звук издавали бубенчики, вдетые в самодельный браслет у Саши на руке. Но вот что странно – несмотря на скверное качество записи и мой чрезвычайно скептический настрой, первоначальное желание поскорее отделаться от навязанного мне прослушивания очень быстро сменилось совершенно поразительным ощущением: я соприкоснулся с чудом. Многослойность образов, избыточная в песенных текстах, но прекрасная в стихах, тонкая игра со словом, густая символика... как же это было странно и неожиданно!
В словах, с которыми неведомый парень обращался к моему городу, было все то, что я сам хотел бы сказать о нем, но не было у меня таких слов.
По памяти:
Звенели бубенцы. И кони в жарком мыле
Тачанку понесли навстречу целине.
Тебя, мой бедный друг, в тот вечер ослепили
Два черных фонаря под выбитым пенсне.
Там шла борьба за смерть. Они дрались за место
И право наблевать за свадебным столом.
Спеша стать сразу всем, насилуя невесту,
Стреляли наугад и лезли напролом.
Сегодня город твой стал праздничной открыткой.
Классический союз гвоздики и штыка.
Заштопаны тугой, суровой, красной ниткой
Все бреши твоего гнилого сюртука.
И дальше:
Подставь дождю щеку в следах былых пощечин.
Хранила б нас беда, как мы ее храним.
О господи… да быть того не может!
По мере того, как сквозь шумы на затертой ленте кассеты проступали слова, ощущение чуда лишь усиливалось. Эти стихи – язык не поворачивается назвать их песнями – были о том, что я и сам давно чувствовал, думая о нас, о нашей жизни, о впавшей в беспамятство и бредущей непонятно куда стране, но ведь... о таком вслух не говорят! Во всяком случае, тогда не говорили.
Эх, налей посошок да зашей мой мешок:
На строку – по стежку, а на слова – по два шва.
И пусть сырая метель мелко вьет канитель
И пеньковую пряжу плетет в кружева.
Отпевайте немых! А я уж сам отпою.
А ты меня не щади – срежь ударом копья.
Но гляди – на груди повело полынью.
Расцарапав края, бьется в ране ладья.
И запел алый ключ, закипел, забурлил.
Завертело ладью на веселом ручье.
А я еще посолил, рюмкой водки долил,
Размешал и поплыл в преисподнем белье.
Перевязан в венки мелкий лес вдоль реки.
Покрути языком – оторвут с головой.
У последней заставы блеснут огоньки,
И дорогу штыком преградит часовой.
–Отпусти мне грехи! Я не помню молитв.
Если хочешь, стихами грехи замолю.
Но объясни: я люблю оттого, что болит,
Или это болит, оттого, что люблю?
И еще:
...На щеках – роса рассветная.
Да чёрной гарью тянет по сырой земле.
Где зерно моё? Где мельница?
Сгорело к черту все. И мыши греются в золе.
Пуст карман, да за подкладкою
найду я три своих последних зёрнышка.
Брошу в землю, брошу в борозду –
к полудню срежу три высоких колоса.
Разотру зерно ладонями
да разведу огонь,
да испеку хлеба.
Преломлю хлеба румяные
да накормлю я всех,
тех, кто придет сюда,
тех, кто поможет мне
рассеять черный дым...
Летом того же года мы с женой в свою очередь приехали в Москву. И там нас ждал сюрприз: друзья устроили у себя Сашин «квартирник». В мансарде их дома близ Чистопрудного бульвара собралась тьма народу: там был Артемий Троицкий, были и другие люди, известные в столичном андеграунде, но я не помню, чтобы перемолвился с ними хотя бы словом – было не до того.
Многое из того, что Башлачев спел в тот раз, я уже слышал в записи. Но было и нечто новое: длинные баллады-притчи, которые сам он называл «былинами». Впрочем, сказать, что Саша их пел, тоже было бы не совсем правильно, хотя он был музыкален, и при том обладал невероятным артистическим темпераментом. Но это было не просто исполнение, скорее – магический обряд, погружавший аудиторию в настоящий транс.
…проплывет луна в черном маслице…
В зимних сумерках,
в волчьих праздниках
темной гибелью
сгинет всякое.
Тaм, где без суда все наказаны,
там, где все одним жиром мазаны,
там, где все одним миром травлены.
Да какой там мир – сплошь окраина…
«Егоркина былина», помню, произвела на моих друзей не самое приятное впечатление. Им казалось, что Башлачева повело куда-то не туда. А по-моему, как раз туда…
Потом, когда действо закончилось и почти все приглашенные ушли, а Саша и его девушка Настя остались, мы долго разговаривали. С ним было удивительно легко – никакой зауми, никакой вычурности не было в его речи. Конечно же, мы говорили «не о том», как выразился бы Достоевский. Но ведь «о том» Саша уже все сказал, и как!
Целовало меня лихо,
Да только надвое разрезало язык.
Поэт с гитарой... Ведь это уже было. Средневековый трубадур. Античный кифаред. Но откуда он явился к нам, где такие рождаются в России? Где-где... В зачерненном металлической пылью городе Череповце.
В следующий раз я слушал Сашу у нас дома, на канале Грибоедова. Выглядел он уже неважно: лицо бледное и какое-то одутловатое, в глазах не было того светлого кипения, которое я запомнил по московскому концерту. Но примерно через час он разошелся: порозовел, даже заулыбался. В ту ночь мы услышали очень много старых его вещей. «Старых» – то есть тех, которые были созданы каких-нибудь два-три года назад, но у Саши были свои отношения с временем. «Ночь воспоминаний», как он сказал, усмехнувшись.
Этот город скользит и меняет названия.
Этот адрес давно кто-то тщательно стер.
Этой улицы нет. А на ней нету здания,
Где всю ночь правит бал Абсолютный Вахтер.
* * *
Хорошие парни, но с ними не по пути.
Нет смысла идти, если главное – не упасть.
Я знаю, что я никогда не смогу найти
Все то, что, наверное, можно легко украсть.
* * *
Что ж теперь ходим круг да около
На своем поле, как подпольщики ?
Если нам не отлили колокол,
Значит, здесь время колокольчиков.
* * *
И мою любимую Рождественскую он тоже спел:
Побегут из-под руки клавиши рояля.
И запляшут пузырьки в мамином бокале.
То-то будет хорошо. Смеху будет много...
Спите, дети, я пошел. Скатертью тревога...
Потом наши приятели разошлись по домам. А мы сидели с Сашей на кухне и ели борщ. Разговаривали. Саша сказал, что последнее время ему не пишется.
-Хочу оглядеться, понять, что происходит.
-Ты так спокойно говоришь об этом…
-Ну… ураган – он ведь тоже всегда спокоен.
Но ураган уже был на излете.
Зимой 1987-88 мы с женой несколько раз пробовали добраться до него по ленинградскому номеру, который Саша нам оставил, но там никто не отвечал. 19 февраля раздался звонок из Москвы: «Мы едем в Ленинград на похороны, Саша Башлачев выбросился из окна».
Лютый, почти сорокаградусный мороз. Темное обморочное небо. Молчаливая толпа на Ковалевском кладбище.
Хорошо знавшие Сашу люди позднее говорили, что у него был тяжелый творческий кризис. Вероятно – да. Это случается, особенно после периода бурного роста, каким для него были три серединных года того десятилетия восьмидесятых. К тому же у Саши еще не могло быть достаточного опыта управления своим огромным даром: он нес его в себе, но не контролировал, и когда «двигатель заглох», он не знал, как запустить его снова. И уж конечно, вечная бездомность и хроническое безденежье тоже сильно на него давили. Я тогда еще до конца не осознавал, что нищий поэт-бродяга, скиталец по городам и весям, в образе которого представал двадцатисемилетний Башлачев, на самом деле не роль, не актерство, а реальность. Он сумел осуществить мечту о свободной жизни поэта – той богемной жизни, которая многим творческим натурам столь желанна... и столь же противопоказана. Но дело, думаю, не только в этом.
«Я хочу понять, что происходит»...
Сейчас-то уже все понятно.
Как ходил Ванюша бережком вдоль синей речки
Как водил Ванюша солнышко на золотой уздечке –
Саше мечталось, что этот его былинный «Ванюша», который в 1917-м загулял и вдоволь хлебнул грязи и насилия, должен наконец очнуться и вспомнить себя «настоящего»:
И тихо встанет печаль немая,
Не видя – звезды горят, костры ли.
И отряхнется, не понимая,
Не понимая, зачем зарыли.
Пройдет вдоль речки
Да темным лесом,
Да темным лесом,
Поковыляет.
Из лесу выйдет
И там увидит,
Как в чистом поле
Душа гуляет,
Как в лунном поле
Душа гуляет,
Как в снежном поле
Душа гуляет...
«Ванюша», действительно, очнулся. Но не стал водить солнце в поводу, а очертя голову кинулся наверстывать упущенное: делать большие деньги и пробиваться к успеху. Один из моих тогдашних знакомых (стремительно обогатившийся, а позже приобретший известность как философ-теолог и публицист), однажды заметил: «Сейчас такое потрясающее время, что даже если просто делать вот так, – он выразительно потер сложенные щепоткой пальцы, – то из воздуха сами собой поползут доллары».
Об этом Башлачеву сказать было нечего. Да и самому ему на новом, точнее, заново расчищаемом, но не то чтобы чистом поле, места не находилось. Родись он двадцатью пятью годами раньше – мне легко представить себе Сашу в компании москвичей-шестидесятников, когда поэтическое слово внезапно обрело неслыханный вес. Но во второй половине восьмидесятых…
Его знакомые недоумевали: в чем проблема-то? Появилось столько новых возможностей, только лови! Хочешь – создавай свою рок-группу, тебе помогут ее раскрутить. Хочешь – пробивайся на телевидение. Можно стать шоуменом. В общем, масса вариантов, нужно только выбрать позицию, которую ты пожелаешь занять – и вперед!
Но не было и не могло быть в то время одной-единственной подходившей ему «позиции» – гениального русского поэта. Она была упразднена как нерентабельная.
По памяти:
Поэт умывает слова, возводя их в приметы,
Подняв свои полные ведра внимательных глаз.
Несчастная жизнь! Она до смерти любит поэта.
И за семерых отмеряет. И режет – эх, раз, еще раз!
Как вольно им петь! И дышать полной грудью на ладан...
Святая вода на пустом киселе неживой.
Не плачьте, когда семь кругов беспокойного лада
Пойдут по воде над прекрасной шальной головой.
Пусть не ко двору эти ангелы-чернорабочие.
Прорвется к перу то, что долго рубить топорам.
Поэты в миру после строк ставят знак кровоточия.
К ним Бог на порог. Но они верно имут свой срам.
Поэты идут до конца. И не смейте кричать им: «Не надо!» –
Ведь Бог, Он не врет, разбивая свои зеркала.
И вновь семь кругов беспокойного звонкого лада
Глядят ему в рот, разбегаясь калибром ствола.





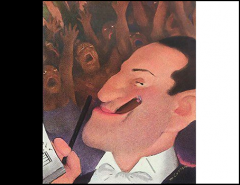


























Комментарии